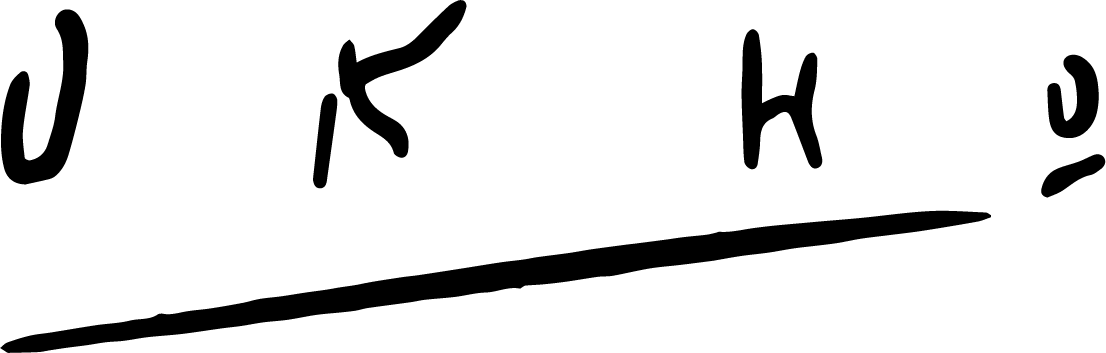Перекрёсток сна и реальности
Эссе Дениса Тихомирова об Ольге Чернышевой
Обложка: из серии «В Москву»
Ольга Чернышева — одна из самых включённых в международный контекст художниц своего поколения. Это первое поколение российских авторов, сформировавшихся уже не в андеграунде, а внутри новой институциональной и рыночной системы 1990-х — на изломе между разрушением старого советского и формированием нового российского государства. Поколение Дмитрия Гутова, Анатолия Осмоловского, Олега Кулика, к которому принадлежит и Чернышева, оказалось на границе смены художественных языков.
Этот переход позволил отойти от практик московского концептуализма, где мир возникает из языка — из текста, из «общего», структурирующего всё вокруг. У Чернышевой, напротив, формируется новая эстетика, рождающаяся из интимного, тактильного опыта, из индивидуального телесного восприятия мира. Она начинает от частного, чтобы вновь найти выход к общему пространству — но не через систему знаков, а через физическое соприкосновение с вещами, светом, людьми.
Этот переход позволил отойти от практик московского концептуализма, где мир возникает из языка — из текста, из «общего», структурирующего всё вокруг. У Чернышевой, напротив, формируется новая эстетика, рождающаяся из интимного, тактильного опыта, из индивидуального телесного восприятия мира. Она начинает от частного, чтобы вновь найти выход к общему пространству — но не через систему знаков, а через физическое соприкосновение с вещами, светом, людьми.
Фотографии из серии «Продавец кактусов», 2009 и «В Москву», 2010
Чернышева — пример художницы, для которой фотография не является первичным медиумом, а лишь одной из форм внутри более широкой художественной практики. Базовым для неё остаётся мультипликация — как союз академического рисунка и синтетического подхода к изображению, где жест становится способом оживления. Мультипликация в её понимании — не жанр, а метод: способ вернуть движение в изображение, оживить поверхность, дать времени течь внутри кадра.
Благодаря этому в её фотографиях нет излишней сделанности — они живут на грани между документацией и образом, между фиксацией и наблюдением. Это, пожалуй, один из немногих примеров в российском искусстве, где фотография и художественный взгляд так сбалансированы. Из мировых авторов вспоминается Габриэль Ороско, из постсоветских — Сергей Братков, но у него сдвиг сильнее в сторону фотографии. У Чернышевой сохраняется лёгкость документа, который говорит: «Я это увидел — но вот как». Этот жест наблюдения и есть основа её метода.
Благодаря этому в её фотографиях нет излишней сделанности — они живут на грани между документацией и образом, между фиксацией и наблюдением. Это, пожалуй, один из немногих примеров в российском искусстве, где фотография и художественный взгляд так сбалансированы. Из мировых авторов вспоминается Габриэль Ороско, из постсоветских — Сергей Братков, но у него сдвиг сильнее в сторону фотографии. У Чернышевой сохраняется лёгкость документа, который говорит: «Я это увидел — но вот как». Этот жест наблюдения и есть основа её метода.
Портрет Ольги Чернышевой / Фотографии из серии «На обочине», 2010 и «В ожидании чуда», 2000
Как отмечает Борис Гройс, в этом внимании к обыденному и «маленькому человеку» чувствуется наследие русского реализма XIX века — прежде всего передвижников, впервые сделавших жизнь обычных людей предметом искусства. Но если передвижники и соцреализм видели ценность в труде, в фигуре рабочего, то Чернышева показывает человека в свободное время, в момент отдыха, когда он просто существует. Гройс называет её «художницей воскресенья» — художницей освобождённого времени, в котором человек остаётся наедине со своей жизнью, без идеологии и без задачи быть полезным. Это воскресенье — не день недели, а особое состояние, когда мир становится самим собой.
Эта идея «воскресного» мира напрямую связана с её образом видения. Чернышева не ищет в жизни героического или редкого, а всматривается в то, что постоянно рядом. Её реализм не социальный и не критический, а эмпатический — реализм присутствия. В нём нет дистанции и комментария, есть мягкое внимание к живому.
Эта идея «воскресного» мира напрямую связана с её образом видения. Чернышева не ищет в жизни героического или редкого, а всматривается в то, что постоянно рядом. Её реализм не социальный и не критический, а эмпатический — реализм присутствия. В нём нет дистанции и комментария, есть мягкое внимание к живому.
Фотографии из серий «На службе», 2007, «Охрана», 2009, «Анабиоз», 2000
Например, в одном из её проектов в непримечательном СНТ отвалившиеся буквы со слова «Лесная» образовали «улицу Сна». Этот текст не требует деконструкции — напротив, он является приглашением в мир сна. Чернышева, отвечая на этот импульс, идёт по улице и находит спинки кроватей, превращённые в забор. Этот образ, если бы художница была социально или критически ориентирована, мог бы свидетельствовать о бедности, разрушении старого материального мира, огораживании своей частной собственности всем, чем можно. Но у Чернышёвой найденный объект становится поэтическим пространством, которое отделяет улицу сна — мир сна — от действительности, где подобное легко не заметить. Она показывает образ параллельного мира, который всегда рядом, но для его восприятия нужна особая оптика.
Фотографии из серии «Улица сна», 1999
Похожая стратегия проявляется и в серии с люстрами, висящими вдоль дороги: роскошь хрусталя и статус советского и постсоветского быта соединяются с хаотично сколоченной деревянной основой. Это похоже на объект торговли, но вокруг нет ни продавцов, ни покупателей — предмет словно выпал из отношений капитала и стал сам себе скульптурой. Оставленный, но чудесным образом соединивший в себе красоту и простоту, он оказывается созданным для включения в пейзаж.
Как и в серии с «улицей Сна», здесь можно восстановить логику произошедшего, обнажив документальность момента, или же войти в другой мир — мир, который гармонизирует сам себя при правильном взгляде и сам создаёт произведения искусства. Мир, похожий на действительность, но преображённый внутренним содержанием. Это и есть художественная оптика Ольги Чернышёвой.
Как и в серии с «улицей Сна», здесь можно восстановить логику произошедшего, обнажив документальность момента, или же войти в другой мир — мир, который гармонизирует сам себя при правильном взгляде и сам создаёт произведения искусства. Мир, похожий на действительность, но преображённый внутренним содержанием. Это и есть художественная оптика Ольги Чернышёвой.