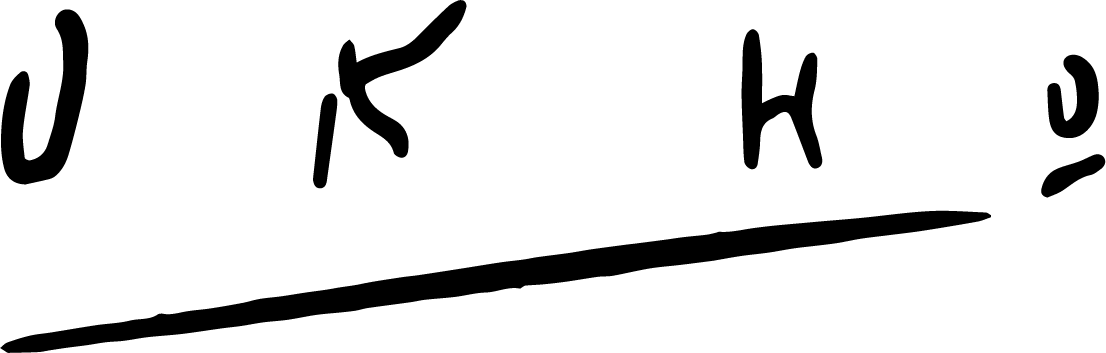«Хирург, оперирующий на живом теле времени»: историография и поэзия Уокера Эванса
Хайнц Лисброк
из книги Walker Evans: Depth of Field
из книги Walker Evans: Depth of Field
Обложка: Penny Picture Display, Savannah, 1936
Вступление
Главная цель этой книги — показать необычайную широту и значимость художественной практики Уокера Эванса, которая началась в конце 1920-х годов и завершилась за несколько дней до его смерти в 1975 году. Один из шагов в этом направлении — вырвать Эванса и его работы из узкой категории «фотограф Великой депрессии». Этот слишком удобный ярлык упрощает и обедняет восприятие его достижений. Важно заново осмыслить гибкость взгляда Эванса — фотография была для него не самоцелью, а удобным инструментом на пути к более широким художественным задачам. Он не раз подчеркивал, что в его практике важны не столько сделанные камерой снимки, сколько сам взгляд.
Работы Эванса демонстрируют ненасытный глаз и процесс, который опирается не только на работу камеры. Сам Эванс сравнивал свой метод с практикой фланёра — фигуры, описанной Бодлером в XIX веке. Фланёр — это денди, бесцельно прогуливающийся по бульварам, не охотник за чем-то особенно интересным, а наблюдатель, способный находить интеллектуальное богатство в самых банальных деталях окружающей жизни. Схожим принципом руководствовалось движение Neue Sachlichkeit («Новая вещественность»), зародившееся в Германии в 1920-х годах. В нём можно разглядеть истоки модели, во многом определившей отношение Эванса к фотографии.
Shadow Self-Portrait, Juan-les-Pins, France, Walker Evans, January, 1927
Эванс восхищался дневниками писателей Эдмона и Жюля Гонкуров, находя в них силу бесхитростной практики фланёра: каждый вечер братья записывали различные подробности своих прогулок по Парижу. Литературные корни Эванса и его врожденный визуальный дар позволили ему увидеть связь между этими непритязательными дневниками и его собственными документальными снимками. Переходя от литературной практики к изобразительному искусству, Эванс начал собирать печатные эфемеры — в частности, почтовые открытки — и позже называл их простоту важнейшим источником вдохновения. Вырезки из журналов — ироничные, абсурдные изображения — он монтировал с фрагментами текста, создавая альбомы в технике словесно-визуального коллажа. В начале 1930-х годов Эванс начал использовать в работах выразительные детали с киноафиш и дорожных указателей и впоследствии иронизировал, что именно он изобрёл поп-арт.
Однажды Джон Шарковски рассказал автору этой книги личную историю о страсти Эванса к типографике и лёгкости, с которой он присваивал понравившиеся артефакты. Вскоре после знакомства Джон пригласил Уокера на рождественский ужин. В тот вечер ему показали потрясающий подарок, который преподнесла Джону его жена — красивый деревянный футляр Викторианский эпохи с алфавитом из крупных резиновых штампов. Эванс внимательно рассмотрел подарок, выразил своё восхищение, а после ужина, надевая пальто и шляпу, небрежно засунул футляр под мышку и, извинившись, сказал, что этот алфавит должен принадлежать ему. После чего быстро ушёл. Спустя годы, уже после смерти Эванса, футляр с алфавитом был возвращён Шарковски. Интерес Эванса к буквам, словам и знакам был действительно велик, и, случалось, доводил до того, что сам Эванс игнорировал те нормы поведения, которых ожидал от других.
Однажды Джон Шарковски рассказал автору этой книги личную историю о страсти Эванса к типографике и лёгкости, с которой он присваивал понравившиеся артефакты. Вскоре после знакомства Джон пригласил Уокера на рождественский ужин. В тот вечер ему показали потрясающий подарок, который преподнесла Джону его жена — красивый деревянный футляр Викторианский эпохи с алфавитом из крупных резиновых штампов. Эванс внимательно рассмотрел подарок, выразил своё восхищение, а после ужина, надевая пальто и шляпу, небрежно засунул футляр под мышку и, извинившись, сказал, что этот алфавит должен принадлежать ему. После чего быстро ушёл. Спустя годы, уже после смерти Эванса, футляр с алфавитом был возвращён Шарковски. Интерес Эванса к буквам, словам и знакам был действительно велик, и, случалось, доводил до того, что сам Эванс игнорировал те нормы поведения, которых ожидал от других.
Self-Portrait in Automated Photobooth, 1930s // Self-Portrait in Automated Photobooth, 1929 // Portraits of Walker Evans Seated at Desk
В середине 1960-х страсть Эванса к словесно-визуальным темам вспыхнула с новой силой — почти в турборежиме. В эти годы он начал собирать коллекцию вывесок и надписей. Иногда он фотографировал их, но нередко и просто воровал — днём или ночью. Эванс полагал, что для художника нет принципиальной разницы между фотографированием и присвоением: если художник что-то увидел, он должен «удовлетворить» своё видение, даже если это противоречит закону.
Несмотря на то, что Эванс признавался в любви к природе, в центре его внимания всегда оставались рукотворные объекты. И хотя он особенно выделял вывески и слова, вся повседневная визуальная среда — архитектура, реклама, одежда, мусор — становилась материалом для его лирических обобщений.
Одна из целей этой книги — показать гениальную способность Эванса превращать коммерческие заказы в произведения, отвечающие его собственным эстетическим принципам и в то же время удовлетворяющие требования заказчиков. Этот факт редко упоминается, но большинство фотографий Эванса были сделаны на заказ — исключение составляют лишь ранние и поздние работы (вторая половина 1960-х—1975 гг). Начиная с задания по съёмке викторианской архитектуры в 1931 году и заканчивая серией American Masonry («Американская каменная кладка») для журнала Fortune в 1965 году, почти всё, что он снимал, создавалось в рамках оплаченных проектов. Пожалуй, единственное исключение — портреты пассажиров нью-йоркского метро, снятые благодаря двум грантам Фонда Гуггенхайма.
Даже фотографии, вошедшие в Let Us Now Praise Famous Men («Теперь восхвалим славных мужей»), одно из его высочайших достижений, изначально были сделаны для Fortune. Художественная фотография никогда не была для Эванса самоцелью — и в этом он был последователен, начиная с первых заявлений о своём неприятии «искусства» как такового.
Несмотря на то, что Эванс признавался в любви к природе, в центре его внимания всегда оставались рукотворные объекты. И хотя он особенно выделял вывески и слова, вся повседневная визуальная среда — архитектура, реклама, одежда, мусор — становилась материалом для его лирических обобщений.
Одна из целей этой книги — показать гениальную способность Эванса превращать коммерческие заказы в произведения, отвечающие его собственным эстетическим принципам и в то же время удовлетворяющие требования заказчиков. Этот факт редко упоминается, но большинство фотографий Эванса были сделаны на заказ — исключение составляют лишь ранние и поздние работы (вторая половина 1960-х—1975 гг). Начиная с задания по съёмке викторианской архитектуры в 1931 году и заканчивая серией American Masonry («Американская каменная кладка») для журнала Fortune в 1965 году, почти всё, что он снимал, создавалось в рамках оплаченных проектов. Пожалуй, единственное исключение — портреты пассажиров нью-йоркского метро, снятые благодаря двум грантам Фонда Гуггенхайма.
Даже фотографии, вошедшие в Let Us Now Praise Famous Men («Теперь восхвалим славных мужей»), одно из его высочайших достижений, изначально были сделаны для Fortune. Художественная фотография никогда не была для Эванса самоцелью — и в этом он был последователен, начиная с первых заявлений о своём неприятии «искусства» как такового.
Signs Collected by Walker Evans, Negatives of SX-70s, 1973-74
Влияние фотографий, сделанных для Администрации по защите фермерских хозяйств (Farm Security Administration) в 1930-х годах, невозможно переоценить. Но было бы ошибкой рассматривать всю творческую работу Эванса через призму этого стиля, сформировавшегося меньше чем за два года. Даже если отвлечься от безусловного значения этих снимков, работы, созданные как до, так и после них дают Эвансу полное право на место в истории фотографии.
Особое внимание в книге уделяется новаторству Эванса в период после 1935—1936 годов. Вне контекста принадлежности к коммерческим съёмкам, фотографии, сделанные в середине карьеры, позволяют заново оценить масштаб его видения и художественной изобретательности. На протяжении двух десятилетий сотрудничества с Fortune Эванс оставался верен интересу к проблемам общественной жизни. При этом большинство заданий он придумывал сам — и называл эту деятельность «работой инкогнито»: воплощая, по сути, собственный художественный замысел, Эванс искусно убеждал работодателей, что трудится над их задачами. Участие в Fortune он выстраивал также, как и деятельность в рамках FSA. Это был человек, который умудрялся сидеть на двух стульях — и, в общем-то, всегда получал то, что хотел.
Стиль Эванса сложился под влиянием разнообразных впечатлений — как литературных, так и визуальных. По сути, это нечто большее, чем просто стиль: это развивающаяся серия стилей, выразительных решений. Выборка работ из любого периода его творчества подтверждает итоговую оценку Эванса как выдающегося американского фотографа. Сила его наследия выходит далеко за рамки национального контекста.
В создании этой книги приняли участие фотографы и писатели Алан Трахтенберг, Джерри Томпсон и Джон Т. Хилл. Они уделили немало времени размышлениям о личности и творчестве своего старого друга Уолкера Эванса. Возможно, это последний раз, когда в одной книге могут быть опубликованы три свидетельства из первых рук.
Особое внимание в книге уделяется новаторству Эванса в период после 1935—1936 годов. Вне контекста принадлежности к коммерческим съёмкам, фотографии, сделанные в середине карьеры, позволяют заново оценить масштаб его видения и художественной изобретательности. На протяжении двух десятилетий сотрудничества с Fortune Эванс оставался верен интересу к проблемам общественной жизни. При этом большинство заданий он придумывал сам — и называл эту деятельность «работой инкогнито»: воплощая, по сути, собственный художественный замысел, Эванс искусно убеждал работодателей, что трудится над их задачами. Участие в Fortune он выстраивал также, как и деятельность в рамках FSA. Это был человек, который умудрялся сидеть на двух стульях — и, в общем-то, всегда получал то, что хотел.
Стиль Эванса сложился под влиянием разнообразных впечатлений — как литературных, так и визуальных. По сути, это нечто большее, чем просто стиль: это развивающаяся серия стилей, выразительных решений. Выборка работ из любого периода его творчества подтверждает итоговую оценку Эванса как выдающегося американского фотографа. Сила его наследия выходит далеко за рамки национального контекста.
В создании этой книги приняли участие фотографы и писатели Алан Трахтенберг, Джерри Томпсон и Джон Т. Хилл. Они уделили немало времени размышлениям о личности и творчестве своего старого друга Уолкера Эванса. Возможно, это последний раз, когда в одной книге могут быть опубликованы три свидетельства из первых рук.
Джон Т. Хилл
Walker Evans, Church Organ and Pews, Alabama, 1936
«Хирург, оперирующий на живом теле времени»: историография и поэзия Уокера Эванса,
статья Хайнца Лисброка
Когда в 1971 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке (MoMA: The Museum of Modern Art) прошла масштабная ретроспектива работ Уокера Эванса, куратор Джон Шарковски представил публике художника, который не просто сыграл важную роль в формировании фотографического языка XX века, но и стремился постичь суть американской идентичности — вне идеологических или политических рамок. Эванс показал стране её саму, предложил заглянуть в зеркало, увидеть богатство повседневной жизни. Никто и никогда не видел повседневность также ясно: не замечал, например, как просто украшенные деревянные дома в маленьких городках «сочетаются» с раскрашенными вручную рекламными щитами, создавая лаконичные образы. Эстетика общественных пространств — товары, автомобили, лица прохожих — стала для Эванса предметом серьезного художественного исследования, культурным феноменом первого порядка. В этом смысле ретроспектива в MoMA явилась одновременно и аллюзией на популярный тогда поп-арт, и приглашением отдать должное его подлинному предшественнику.
Выставка 1971 года стала новым открытием имени Эванса: несмотря на то, что в 1938 году в MoMA состоялась знаковая выставка American Photographs («Американские фотографии»), впоследствии его работы почти исчезли из поля зрения широкой аудитории. Лишь немногие по-настоящему осознавали их значение, а для среднестатистического зрителя 68-летний Эванс оставался незнакомой фигурой: его работа, прошлая и текущая, была практически неизвестна публике, интересующейся современным искусством. Все эти годы лишь небольшие группы ценителей воспринимали фотографию как искусство — в эстетическом, а не журналистском контексте. За редкими исключениями, фотография не была представлена ни на арт-рынке, ни в музеях. Дела обстояли так и в США, и в Европе, где фотографию вполне признали искусством лишь в 1990-х.
Именно поэтому кураторы MoMA стремились не только представить публике выдающегося мастера, но и подчеркнуть влияние его работ на новое поколение американских фотографов, заявивших о себе в середине 1960-х годов. В 1967 году Шарковски организовал выставку, объединившую работы молодых авторов — Дианы Арбус, Ли Фридлендера и Гарри Виногранда. Из-за своеобразной эстетики выставка вызвала полярные отклики. Название экспозиции — New Documents («Новые документы») — указывало на преемственность по отношению к объективному, лаконичному языку Эванса, но одновременно подчеркивало, что новое поколение стремится наполнить документальность более субъективным содержанием. Личная интонация становилась важной категорией.
Оглядываясь на выставки Уокера Эванса и его младших современников, а также на художественные задачи, которые они перед собой ставили, мы понимаем, что говорим уже о классиках. Арбус, Виногранд, Фридлендер — каждый из них сегодня признан создателем собственного независимого и самобытного визуального языка. Однако именно Эвансу в наибольшей степени удалось утвердить своё уникальное понимание фотографии — собственный подход, понятный лишь немногим в конце 1920-х. С тех пор Эванса справедливо считают реформатором медиума, ключевой фигурой, во многом определившей эстетику и вектор развития фотографии.
Walker Evans: Butcher Sign, Mississippi, 1936 / Breakfast Room at Belle Grove Plantation, White Chapel, Louisiana, 1935 / Church of the Nazarene, Tennessee, 1936 / City Lunch Counter, New York, 1929 / Connecticut Frame House, 1933 / Fence with Painted Sign of Hand, Sandusky, Ohio, 1947 / House, Cambridge, Massachusetts, 1932 / Joe's Auto Graveyard, Pennsylvania, 1936 / Landscape, Gulf Coast, Louisiana, 1935
Давайте попробуем задаться вопросом, что именно составляет суть искусства этого признанного фотографа. На что он опирается, как можно описать его подлинные цели и выразительные средства? Ответы часто остаются туманными. В случае Эванса как нельзя более уместна мысль Гегеля: «То, что знакомо, не понимается именно потому, что оно знакомо» (What is familiar is not understood precisely because it is familiar). Это справедливо не только для работ Эванса, но и для исторического восприятия фотографии как таковой, по-прежнему изученной не столь глубоко, как живопись или скульптура. Предпосылки, художественные парадигмы и связи фотографии с литературой и изобразительным искусством по сей день исследованы лишь фрагментарно.
В творчестве Эванса мы видим не только эталон фотографии XX века, но и ключ к осознанию её эстетических категорий и уникальных возможностей. Его творчество напрямую связано с основополагающими вопросами медиума о соотношении изображения и окружающей действительности, или более точно: фотографии и социальной реальности человека. Что именно способно выразить фотографическое изображение? И как наделить это выражение устойчивой, долговечной формой?
Концепция фотографии Уокера Эванса, которую мы так прочно связываем с Америкой — страной, где она возникла и расцвела, — во многом сформировалась под влиянием литературы модернизма. Именно с литературы, а вовсе не с визуального искусства, началось его творческое становление.
Родившись на Среднем Западе (Сент-Луис, Миссури), Эванс учился в частных школах на Восточном побережье, но с трудом воспринимал навязанные академические дисциплины. Учёба казалась скучной, и он вскоре оставил её. Однако именно в стенах библиотеки Колледжа Уильямса он впервые столкнулся с современной литературой, которая увлекла его. Книги стали его окном в мир, поводом осмыслить современность. Это произошло в начале 1920-х годов — в момент, когда американская и европейская литература переживали радикальное обновление, вызванное духовным и политическим кризисом Первой мировой войны и русской революции. Безжизненные формы девятнадцатого века были отброшены. На смену им пришла динамика современности — язык живой, разговорный, напрямую обращённый к реальности и эмоциям. Настоящее стало рассматриваться сквозь призму универсального человеческого опыта.
В творчестве Эванса мы видим не только эталон фотографии XX века, но и ключ к осознанию её эстетических категорий и уникальных возможностей. Его творчество напрямую связано с основополагающими вопросами медиума о соотношении изображения и окружающей действительности, или более точно: фотографии и социальной реальности человека. Что именно способно выразить фотографическое изображение? И как наделить это выражение устойчивой, долговечной формой?
Концепция фотографии Уокера Эванса, которую мы так прочно связываем с Америкой — страной, где она возникла и расцвела, — во многом сформировалась под влиянием литературы модернизма. Именно с литературы, а вовсе не с визуального искусства, началось его творческое становление.
Родившись на Среднем Западе (Сент-Луис, Миссури), Эванс учился в частных школах на Восточном побережье, но с трудом воспринимал навязанные академические дисциплины. Учёба казалась скучной, и он вскоре оставил её. Однако именно в стенах библиотеки Колледжа Уильямса он впервые столкнулся с современной литературой, которая увлекла его. Книги стали его окном в мир, поводом осмыслить современность. Это произошло в начале 1920-х годов — в момент, когда американская и европейская литература переживали радикальное обновление, вызванное духовным и политическим кризисом Первой мировой войны и русской революции. Безжизненные формы девятнадцатого века были отброшены. На смену им пришла динамика современности — язык живой, разговорный, напрямую обращённый к реальности и эмоциям. Настоящее стало рассматриваться сквозь призму универсального человеческого опыта.
Walker Evans, 1930s
Эванс пристально следил за этими процессами, в том числе через публикации в журнале The Dial, одном из важнейших рупоров художественного модернизма. Именно там в ноябре 1922 года была опубликована новаторская поэма Т. С. Элиота «Бесплодная земля», там же печатались и ранние стихи Э. Э. Каммингса. Интеллектуальная резкость, беспристрастность высказывания, а у Каммингса — в том числе и обращение к живой речи: всё это оказало влияние на будущий стиль Эванса. В этих текстах он находил интонации, которые отозвались в его визуальном языке.
Эти литературные влияния были частью международного культурного обмена, особенно тесно связывавшего американских авторов с французскими. Неудивительно, что Эванс, чувствовавший себя чужим в американском обществе, отправился в 1926 году в Париж. Он надеялся выучить язык и глубже погрузиться в французскую литературу, мечтая стать писателем. Он переводил, читал и верил, что этот путь подготовит его к литературной карьере. Но эстетическое чутьё, уже развитое к тому времени, быстро подсказало ему: соответствовать собственным стандартам в слове он не сможет.
Вернувшись в США, Эванс обратился к фотографии. Первый интерес возник ещё в Европе — он делал туристические снимки на компактную камеру. Но вскоре понял: все, что он узнал, читая Флобера и Бодлера, применимо и в визуальном искусстве. Именно они, а также Пруст, Джойс и Хемингуэй стали его литературными ориентирами.
Когда в конце карьеры у Эванса спросили, кто повлиял на него в литературе, он без колебаний ответил: «Флобер — в первую очередь по методу. А Бодлер — по духу. Да, они определённо повлияли на меня, во всех смыслах… Тогда я этого не осознавал, но теперь понимаю: эстетика Флобера — абсолютно моя. Метод Флобера, я думаю, я впитал почти бессознательно, использовал и его реализм, и натурализм, и объективность трактовки; неявность автора, отсутствие субъективности».
Рассматривая фотографии Эванса, легко понять, чем его привлекали эти писатели. Работы Эванса сродни взгляду, характерному для романов Флобера (беспощадный анализ французского среднего класса и его размытой морали). Взгляд Эванса — как и у Бодлера — блуждает по улицам, задерживается на проспектах, останавливается на том, что обычно маргинализировано. То, что казалось немым, обретает форму — иногда почти пугающую, но неизменно прекрасную. Материал, который интересен Эвансу — вовсе не в возвышенном. Он — в обыденности, в быте американского среднего класса. Именно эта жизнь с её тусклыми комнатами, вывесками, лицами может стать основой для подлинного художественного высказывания.
Эти литературные влияния были частью международного культурного обмена, особенно тесно связывавшего американских авторов с французскими. Неудивительно, что Эванс, чувствовавший себя чужим в американском обществе, отправился в 1926 году в Париж. Он надеялся выучить язык и глубже погрузиться в французскую литературу, мечтая стать писателем. Он переводил, читал и верил, что этот путь подготовит его к литературной карьере. Но эстетическое чутьё, уже развитое к тому времени, быстро подсказало ему: соответствовать собственным стандартам в слове он не сможет.
Вернувшись в США, Эванс обратился к фотографии. Первый интерес возник ещё в Европе — он делал туристические снимки на компактную камеру. Но вскоре понял: все, что он узнал, читая Флобера и Бодлера, применимо и в визуальном искусстве. Именно они, а также Пруст, Джойс и Хемингуэй стали его литературными ориентирами.
Когда в конце карьеры у Эванса спросили, кто повлиял на него в литературе, он без колебаний ответил: «Флобер — в первую очередь по методу. А Бодлер — по духу. Да, они определённо повлияли на меня, во всех смыслах… Тогда я этого не осознавал, но теперь понимаю: эстетика Флобера — абсолютно моя. Метод Флобера, я думаю, я впитал почти бессознательно, использовал и его реализм, и натурализм, и объективность трактовки; неявность автора, отсутствие субъективности».
Рассматривая фотографии Эванса, легко понять, чем его привлекали эти писатели. Работы Эванса сродни взгляду, характерному для романов Флобера (беспощадный анализ французского среднего класса и его размытой морали). Взгляд Эванса — как и у Бодлера — блуждает по улицам, задерживается на проспектах, останавливается на том, что обычно маргинализировано. То, что казалось немым, обретает форму — иногда почти пугающую, но неизменно прекрасную. Материал, который интересен Эвансу — вовсе не в возвышенном. Он — в обыденности, в быте американского среднего класса. Именно эта жизнь с её тусклыми комнатами, вывесками, лицами может стать основой для подлинного художественного высказывания.
Carbon Copies of Translations from French by Walker Evans of Gourmont, Baudelaire, Radiguet, Cendrars, Cocteau, Larbaud, Gide, Lautréamont, Dottin, and Others
Как и у художника Эдварда Хоппера, чьё творческое пробуждение произошло в Париже на два десятилетия раньше, у Уокера Эванса знакомство с французским искусством сыграло решающую роль. Именно во Франции он впервые осознал, какие эстетические возможности скрываются в кажущейся прозаичности американской повседневности. Оба художника — и Хоппер, и Эванс — смотрели на Америку словно глазами посторонних. В этом отстранённом взгляде проявлялось новое, почти парадоксальное очарование обыденного. Их объединяла не только трезвость восприятия, но и внимание к архитектурным формам, которые в их работах словно оживали под действием света.
Полное освобождение американского искусства от влияния европейского культурного мейнстрима, от глубоко укоренившегося комплекса неполноценности по отношению к Старому Свету началось лишь около 1950 года с появлением абстрактного экспрессионизма. Это движение сформулировало новый художественный язык и этику, сознательно дистанцируясь от европейской традиции. Эванс и Хоппер в этом контексте принадлежали к его предвестникам. Неслучайно их первые выставки в Музее современного искусства прошли почти одновременно — в 1933 году.
Когда Хоппер окончательно вернулся из Европы в 1910 году после трёх длительных поездок, он ощущал себя чужим на родине: «Америка показалась мне ужасно грубой и сырой, — вспоминал он. — Мне потребовалось десять лет, чтобы забыть Европу». Эванс, обосновавшийся в Нью-Йорке после возвращения из Парижа, испытывал нечто схожее. Он не находил эмоционального отклика в обществе, находившемся во власти экономических задач и культа посредственности, укорененного в пуританском каноне ценностей. В отличие от французской культурной среды, где индивидуальная чувствительность и интеллектуальная независимость вызывали уважение, американская реальность казалась Эвансу враждебной. К тому же он жил впроголодь, перебиваясь случайными заработками — в том числе как клерк на Уолл-стрит.
Именно в эти годы у него сформировалась глубокая антипатия к капиталистической системе с её самодовольством и наивной верой в прогресс. За два дня до смерти, вспоминая то время на одной из лекций, он говорил: «Это было общество ненависти, и оно ожесточало всех людей моего поколения. Либо ты вливался в строй, либо тебя выталкивали… Я прыгал от радости, когда читал, как биржевые брокеры выбрасывались из окон! В тот день, когда в Мичигане лопнули банки, и всё рухнуло, на улицах Виллиджа все танцевали».
Полное освобождение американского искусства от влияния европейского культурного мейнстрима, от глубоко укоренившегося комплекса неполноценности по отношению к Старому Свету началось лишь около 1950 года с появлением абстрактного экспрессионизма. Это движение сформулировало новый художественный язык и этику, сознательно дистанцируясь от европейской традиции. Эванс и Хоппер в этом контексте принадлежали к его предвестникам. Неслучайно их первые выставки в Музее современного искусства прошли почти одновременно — в 1933 году.
Когда Хоппер окончательно вернулся из Европы в 1910 году после трёх длительных поездок, он ощущал себя чужим на родине: «Америка показалась мне ужасно грубой и сырой, — вспоминал он. — Мне потребовалось десять лет, чтобы забыть Европу». Эванс, обосновавшийся в Нью-Йорке после возвращения из Парижа, испытывал нечто схожее. Он не находил эмоционального отклика в обществе, находившемся во власти экономических задач и культа посредственности, укорененного в пуританском каноне ценностей. В отличие от французской культурной среды, где индивидуальная чувствительность и интеллектуальная независимость вызывали уважение, американская реальность казалась Эвансу враждебной. К тому же он жил впроголодь, перебиваясь случайными заработками — в том числе как клерк на Уолл-стрит.
Именно в эти годы у него сформировалась глубокая антипатия к капиталистической системе с её самодовольством и наивной верой в прогресс. За два дня до смерти, вспоминая то время на одной из лекций, он говорил: «Это было общество ненависти, и оно ожесточало всех людей моего поколения. Либо ты вливался в строй, либо тебя выталкивали… Я прыгал от радости, когда читал, как биржевые брокеры выбрасывались из окон! В тот день, когда в Мичигане лопнули банки, и всё рухнуло, на улицах Виллиджа все танцевали».
Walker Evans, фотографии 1935—37 гг.
Чувство культурного и экономического отчуждения вскоре проявилось у Эванса во внимании к обычным людям, находившимся на обочине высокой культуры. В некотором смысле сам выбор фотографии и внимание к её художественным возможностям — выбор аутсайдера, человека, который не вписался в рамки современного ему общества. В отличие от писателей-модернистов, которые нарушали правила, но имели за спиной литературную традицию и академическое признание, фотографы работали на территории, статус которой ещё не был ясен. Так было, когда начинал Эванс.
Тем не менее, всего за несколько лет он сумел сформулировать собственное видение новой фотографии. Начав снимать в 1928 году, он первоначально ориентировался на эстетику «Нового видения», которая в то время активно развивалась в Германии и Советском Союзе.
Ласло Мохой-Надь, Александр Родченко, Эль Лисицкий — представители этого движения — создавали фотографию, отражавшую пульс эпохи: стремительное ускорение жизни, рост мегаполисов в результате индустриализации. Образы, которые создавали эти художники, казались драматичными — словно бы лишёнными опоры, твёрдой земли под ногами. Хотя ранние снимки Эванса были удивительно зрелыми, они всё-таки не демонстрировали всего, на что он способен. Эстетически они соответствовали тому пониманию формы, которое было характерно для «Нового видения». Небоскрёбы и их осевые линии (конструктивизм ради него самого) можно встретить в любом мегаполисе. Ранним снимкам не хватало собственной выразительной силы Эванса, интереса к самобытности американской культуры, характерного для его более поздних работ.
Однако вскоре собственный стиль Эванса начал проявляться отчётливо. Начиная с 1930 года, он неустанно исследовал Нью-Йорк — особенно Манхэттен и Бруклин, а также окраины. К 1933 году, когда Эванс фотографировал на Кубе, он нашёл свой уникальный визуальный язык и вместе с ним обрёл творческую уверенность — два важнейших элемента художественной практики.
Тем не менее, всего за несколько лет он сумел сформулировать собственное видение новой фотографии. Начав снимать в 1928 году, он первоначально ориентировался на эстетику «Нового видения», которая в то время активно развивалась в Германии и Советском Союзе.
Ласло Мохой-Надь, Александр Родченко, Эль Лисицкий — представители этого движения — создавали фотографию, отражавшую пульс эпохи: стремительное ускорение жизни, рост мегаполисов в результате индустриализации. Образы, которые создавали эти художники, казались драматичными — словно бы лишёнными опоры, твёрдой земли под ногами. Хотя ранние снимки Эванса были удивительно зрелыми, они всё-таки не демонстрировали всего, на что он способен. Эстетически они соответствовали тому пониманию формы, которое было характерно для «Нового видения». Небоскрёбы и их осевые линии (конструктивизм ради него самого) можно встретить в любом мегаполисе. Ранним снимкам не хватало собственной выразительной силы Эванса, интереса к самобытности американской культуры, характерного для его более поздних работ.
Однако вскоре собственный стиль Эванса начал проявляться отчётливо. Начиная с 1930 года, он неустанно исследовал Нью-Йорк — особенно Манхэттен и Бруклин, а также окраины. К 1933 году, когда Эванс фотографировал на Кубе, он нашёл свой уникальный визуальный язык и вместе с ним обрёл творческую уверенность — два важнейших элемента художественной практики.
Dockworkers, Havana, Walker Evans, 1933 / Squatters' Village, 1933
В подходе Эванса к фотографии прослеживается прямота, не допускающая никаких формальных прикрас или, как он выражался, «художественности». Это было уничижительное выражение, направленное в первую очередь против Альфреда Стиглица и Эдварда Стайхена, главных героев американской и международной фотографии того времени. Будучи в чём-то противоположностью своему младшему коллеге, они тем не менее помогли ему выработать собственную художественную эстетику.
«Я злился и хотел идти в направлении, противоположном этим двоим».
Если Стиглиц все ещё видел эстетику фотографического изображения в близости к живописи и работал в пикториальном стиле, стараясь при этом выработать собственный уникальный почерк, то Эванс стремился к такой форме фотографии, которая затрагивает социальную проблематику и использует уникальные для медиума возможности, точно фиксируя видимое. Неудивительно, что фотография слепой женщины на улицах Нью-Йорка, сделанная Полом Стрэндом, стала одним из немногих фотографических откровений для Эванса в то время.
Что касается его тематических интересов, то он точно так же отмежевался от устоявшегося канона, определявшего, какие сюжеты «достойны искусства». Эванс с глубоким недоверием относился к музейной парадигме, считая, что искусство должно черпать свою энергию там, где современная жизнь проявляет себя в наиболее концентрированной форме. Для Эванса такими местами были многолюдные городские улицы.
«Я злился и хотел идти в направлении, противоположном этим двоим».
Если Стиглиц все ещё видел эстетику фотографического изображения в близости к живописи и работал в пикториальном стиле, стараясь при этом выработать собственный уникальный почерк, то Эванс стремился к такой форме фотографии, которая затрагивает социальную проблематику и использует уникальные для медиума возможности, точно фиксируя видимое. Неудивительно, что фотография слепой женщины на улицах Нью-Йорка, сделанная Полом Стрэндом, стала одним из немногих фотографических откровений для Эванса в то время.
Что касается его тематических интересов, то он точно так же отмежевался от устоявшегося канона, определявшего, какие сюжеты «достойны искусства». Эванс с глубоким недоверием относился к музейной парадигме, считая, что искусство должно черпать свою энергию там, где современная жизнь проявляет себя в наиболее концентрированной форме. Для Эванса такими местами были многолюдные городские улицы.
Walker Evans, фотографии 1930-х гг.
Его художественную эстетику подпитывала энергия народного творчества, «американского вернакуляра», проявлявшегося, например, в виде «импровизационной» архитектуры, на рекламных щитах и в оформлении витрин. Он также столкнулся с этим в фотографиях Эжена Атже, в которых неподдельное, неакадемическое чувство красоты проявляется в умении заметить мастерски сделанную работу.
Художественный стиль Эванса определялся глубоким уважением к видимому миру и его явлениям. Его целью было скрупулезно наблюдать и изображать увиденное как можно более чётко и непредвзято. Он хотел создавать документы, а не искусство. Однако такой подход не задерживается ни на «журналистском» уровне, ни на уровне научного документирования, а переходит во внутреннюю сферу, где объекты заряжаются воображением художника и тем самым наполняются необычайной жизненной силой.
Эванс проходит по тонкой грани между внутренней и внешней реальностью. Он ищет способ изобразить эмпирически достоверную реальность, которая также отражает личную реакцию художника на неё. Если это получилось, фотография, по мнению Эванса, удалась, и в ней может открыться трансцендентное измерение. Как это происходит? Бесформенный мир вдруг отвечает нам, словно бы проявляя скрытый глубинный порядок. Зафиксированный на плёнке, этот момент озарения — недолговечный по своей природе — обретает осязаемую форму, не теряя, однако, своего мимолетного характера. Это момент равновесия между внешним миром и фотографом, фиксированная точка, в которой он подчиняет себя и свои личные взгляды видимому миру, погружается в формальную структуру изображения. Это процесс прояснения существующих обстоятельств, а не открытие чего-то принципиально нового. Мир важнее стремления автора к самовыражению, и не должен быть искажён особенностями личного взгляда фотографа. Потому что, можно сказать, то, что чувственно воспринимается, уже само по себе прекрасно и не нуждается в субъективной оценке.
Эванс стремился избежать своего явного присутствия в фотографиях. Он как личность с биографически обусловленными симпатиями и антипатиями оставался невидимым: выражение мнения, тем более морализаторского, было ему отвратительно. Мысль Флобера, близкая Эвансу: вещи полнее раскрываются и оказывают более глубокое воздействие на зрителя, когда они остаются нетронутыми, в их собственной реальности. Как бы то ни было, факты, которые Эванс хотел изобразить как можно более объективно, тем не менее, обретают свою особенную магию. Это происходит потому, что в их структуру проникает художественное волнение фотографа. Он видит вещи в совершенно новом свете, как будто это первый день творения. В том, что на первый взгляд может показаться простым документированием, на деле все-таки есть что-то личное. Сам Эванс называл свой подход «лирической документалистикой». На этот счёт можно отнести и замечание молодого Эванса о фотографиях Эжена Атже. В них речь идет о «поэзии, которая является не столько „поэзией улицы“ или „поэзией Парижа“, сколько проекцией личности Атже».
Художественный стиль Эванса определялся глубоким уважением к видимому миру и его явлениям. Его целью было скрупулезно наблюдать и изображать увиденное как можно более чётко и непредвзято. Он хотел создавать документы, а не искусство. Однако такой подход не задерживается ни на «журналистском» уровне, ни на уровне научного документирования, а переходит во внутреннюю сферу, где объекты заряжаются воображением художника и тем самым наполняются необычайной жизненной силой.
Эванс проходит по тонкой грани между внутренней и внешней реальностью. Он ищет способ изобразить эмпирически достоверную реальность, которая также отражает личную реакцию художника на неё. Если это получилось, фотография, по мнению Эванса, удалась, и в ней может открыться трансцендентное измерение. Как это происходит? Бесформенный мир вдруг отвечает нам, словно бы проявляя скрытый глубинный порядок. Зафиксированный на плёнке, этот момент озарения — недолговечный по своей природе — обретает осязаемую форму, не теряя, однако, своего мимолетного характера. Это момент равновесия между внешним миром и фотографом, фиксированная точка, в которой он подчиняет себя и свои личные взгляды видимому миру, погружается в формальную структуру изображения. Это процесс прояснения существующих обстоятельств, а не открытие чего-то принципиально нового. Мир важнее стремления автора к самовыражению, и не должен быть искажён особенностями личного взгляда фотографа. Потому что, можно сказать, то, что чувственно воспринимается, уже само по себе прекрасно и не нуждается в субъективной оценке.
Эванс стремился избежать своего явного присутствия в фотографиях. Он как личность с биографически обусловленными симпатиями и антипатиями оставался невидимым: выражение мнения, тем более морализаторского, было ему отвратительно. Мысль Флобера, близкая Эвансу: вещи полнее раскрываются и оказывают более глубокое воздействие на зрителя, когда они остаются нетронутыми, в их собственной реальности. Как бы то ни было, факты, которые Эванс хотел изобразить как можно более объективно, тем не менее, обретают свою особенную магию. Это происходит потому, что в их структуру проникает художественное волнение фотографа. Он видит вещи в совершенно новом свете, как будто это первый день творения. В том, что на первый взгляд может показаться простым документированием, на деле все-таки есть что-то личное. Сам Эванс называл свой подход «лирической документалистикой». На этот счёт можно отнести и замечание молодого Эванса о фотографиях Эжена Атже. В них речь идет о «поэзии, которая является не столько „поэзией улицы“ или „поэзией Парижа“, сколько проекцией личности Атже».
Фотографии Эжена Атже
Понятие «лирическая документалистика» стоит в центре эстетики Эванса. Оно объединяет две противоположности, определяющие его представление о художественном образе. Это точка пересечения между документальной природой фотоизображения, беспристрастным взглядом на видимые явления, и, одновременно с этим, художественной передачей, которая возвышает вещи над эмпирическим контекстом. Фотографическое изображение делает вещи видимыми и в то же время лишает их однозначности. Их богатство не растворяется в функциональном контексте. Взглянув на работы Эванса, становится ясно, что искусство фотографии начинается там, где видимое соприкасается с невидимым. Центральное значение здесь имеет следующая цитата:
«Документалистика? Это очень сложное и вводящее в заблуждение слово. И не совсем понятное. Нужно иметь искушенный слух, чтобы воспринять это слово. Правильнее термин „документальный стиль“. Примером документа в буквальном смысле может служить полицейская фотография с места убийства. Понимаете, у документа есть польза, тогда как искусство на самом деле бесполезно. Поэтому искусство никогда не будет документом, хотя, конечно, может перенять этот стиль. Меня иногда называют фотографом-документалистом, но это предполагает довольно тонкое знание различия, которое я только что сделал, и которое является довольно новым».
Таким образом, получается, что понятие истины, свойственное точным наукам, сталкивается с художественным правдоподобием, которое само по себе является достаточным, не требует подтверждения опытным путём. С точки зрения прагматического мышления это может показаться бесполезным, но для Эванса точность не имеет исключительных прав на истину. На самом деле она не отражает всю сложность реальности. Исходя из этого, он предварил одну из поздних публикаций — Message from the Interior, манифест своих художественных намерений, содержавший всего двенадцать фотографий и короткий текст Шарковски, — эпиграммой, позаимствованной у Матисса (который позаимствовал её у Делакруа): «L'exactitude n’est pas la vérité» («Точность — не истина»).
«Документалистика? Это очень сложное и вводящее в заблуждение слово. И не совсем понятное. Нужно иметь искушенный слух, чтобы воспринять это слово. Правильнее термин „документальный стиль“. Примером документа в буквальном смысле может служить полицейская фотография с места убийства. Понимаете, у документа есть польза, тогда как искусство на самом деле бесполезно. Поэтому искусство никогда не будет документом, хотя, конечно, может перенять этот стиль. Меня иногда называют фотографом-документалистом, но это предполагает довольно тонкое знание различия, которое я только что сделал, и которое является довольно новым».
Таким образом, получается, что понятие истины, свойственное точным наукам, сталкивается с художественным правдоподобием, которое само по себе является достаточным, не требует подтверждения опытным путём. С точки зрения прагматического мышления это может показаться бесполезным, но для Эванса точность не имеет исключительных прав на истину. На самом деле она не отражает всю сложность реальности. Исходя из этого, он предварил одну из поздних публикаций — Message from the Interior, манифест своих художественных намерений, содержавший всего двенадцать фотографий и короткий текст Шарковски, — эпиграммой, позаимствованной у Матисса (который позаимствовал её у Делакруа): «L'exactitude n’est pas la vérité» («Точность — не истина»).
В понимании Эванса фотография описывает реальность, а не просто изображает ее. Фотография — это ещё и интерпретация. Она пытается понять то, что видит, и в то же время включает это понимание в структуру изображения. Решение фотографа придать форму всему увиденному резко останавливает поток, казалось бы, обычных явлений, которые в противном случае захлестнули бы нас. На фотографии они располагаются в новом порядке, который позволяет по-новому взглянуть на них, освобождает от давно сложившихся шаблонов восприятия. То, что казалось знакомым, проявляет себя как-то неожиданно: становится словно бы прозрачным, обнажая основу, которая встраивает увиденное в более широкий контекст. Изображение обретает жизненную силу, а вместе с ней и трансцендентное измерение, о котором говорил Эванс.
Сегодня, как никогда ранее, в восприятии фотографии смешаны предмет изображения и его эстетика. Содержание снимка воспринимается буквально. Хотя в изображениях Эванса есть интерес к социальному контексту, мы обнаруживаем в них нечто большее: то, что сложно выразить словами, особый язык фотографии, сущность, которая превращает фотографический отпечаток в искусство.
В свете такой концепции изображения неудивительно, что слова Эванса — его опубликованные интервью и письменные работы — могут звучать противоречиво. Он легко балансирует между возможными противоречиями, тщательно избегая однозначных высказываний, которые могли бы «ограничить» его, выразить лишь часть всей сложности опыта, который его интересовал.
Также устроены и его фотографии. Они — среднее между историческим документом и концепцией «автономного» образа, который рождается из простого чувственного впечатления и не содержит однознозначной ссылки на исторический контекст.
Отвечая на вопрос о многозначности своих фотографий, Эванс говорил, что историографический импульс играл важную роль в его творчестве в тридцатые годы («Я занимался социальной историей»). Его интересовали визуально проявленные приметы времени как выражение социального сосуществования. Он стремился запечатлеть рекламу, архитектуру, одежду, которую носили люди, момент массового распространения автомобилей — словом, явления, в которых «публичное» взаимодействовало с «частным». Для Эванса они были значимы сами по себе и представляли культурную ценность. Его взгляд служил делу историка: он запечатлевал элементы, которые последующие поколения восприняли как фундаментальные аспекты недавнего прошлого. Интерпретировал мимолетное сегодня с прицелом на гипотетическое завтра: Эванса интересовало и интересует, как любое настоящее время будет выглядеть в качестве уже прошедшего. Чтобы это стало возможным, фотография, с точки зрения Эванса, должна была найти свой собственный независимый визуальный язык.
«В тысячный раз приходится повторять, что фотографии или говорят сами за себя, без слов, визуально — или проваливаются». Недостаточно просто запечатлеть вещи и события в анонимной манере, не наполнив их при этом художественным содержанием. Каждая такая фотография — слепой неразличимый документ, который канет в Лету, как только исторический момент, запечатлённый на ней, утратит злободневность. Только символическая наполненность фотографии гарантирует, что она пройдёт проверку временем.
Сегодня, как никогда ранее, в восприятии фотографии смешаны предмет изображения и его эстетика. Содержание снимка воспринимается буквально. Хотя в изображениях Эванса есть интерес к социальному контексту, мы обнаруживаем в них нечто большее: то, что сложно выразить словами, особый язык фотографии, сущность, которая превращает фотографический отпечаток в искусство.
В свете такой концепции изображения неудивительно, что слова Эванса — его опубликованные интервью и письменные работы — могут звучать противоречиво. Он легко балансирует между возможными противоречиями, тщательно избегая однозначных высказываний, которые могли бы «ограничить» его, выразить лишь часть всей сложности опыта, который его интересовал.
Также устроены и его фотографии. Они — среднее между историческим документом и концепцией «автономного» образа, который рождается из простого чувственного впечатления и не содержит однознозначной ссылки на исторический контекст.
Отвечая на вопрос о многозначности своих фотографий, Эванс говорил, что историографический импульс играл важную роль в его творчестве в тридцатые годы («Я занимался социальной историей»). Его интересовали визуально проявленные приметы времени как выражение социального сосуществования. Он стремился запечатлеть рекламу, архитектуру, одежду, которую носили люди, момент массового распространения автомобилей — словом, явления, в которых «публичное» взаимодействовало с «частным». Для Эванса они были значимы сами по себе и представляли культурную ценность. Его взгляд служил делу историка: он запечатлевал элементы, которые последующие поколения восприняли как фундаментальные аспекты недавнего прошлого. Интерпретировал мимолетное сегодня с прицелом на гипотетическое завтра: Эванса интересовало и интересует, как любое настоящее время будет выглядеть в качестве уже прошедшего. Чтобы это стало возможным, фотография, с точки зрения Эванса, должна была найти свой собственный независимый визуальный язык.
«В тысячный раз приходится повторять, что фотографии или говорят сами за себя, без слов, визуально — или проваливаются». Недостаточно просто запечатлеть вещи и события в анонимной манере, не наполнив их при этом художественным содержанием. Каждая такая фотография — слепой неразличимый документ, который канет в Лету, как только исторический момент, запечатлённый на ней, утратит злободневность. Только символическая наполненность фотографии гарантирует, что она пройдёт проверку временем.
Видео музея The Metropolitan Museum of Art из серии Art, Explained о серии фотографии Эванса из метро
Эта взаимосвязь между историческим интересом и убедительностью художественного образа становится понятнее, если взглянуть на эволюцию творчества Эванса в 1940-е годы. В то время он работал почти исключительно для журнала Fortune. В 1945 году он стал штатным фотографом журнала, и эта должность дала ему свободу и финансовую стабильность — всё, что необходимо для разработки собственных идей. И хотя фотографии для Fortune были заказными, в них — высокая художественная энергия. Всё, что Эванс фотографировал на улицах Бриджпорта, Детройта и Чикаго, становилось фотоисториями на страницах Fortune, и тем не менее заказные снимки отражали его идеи, он руководствовался желанием углублять собственное понимание фотографии.
По смыслу эти серии связаны тем, что фокус внимания каждой из них — человек, такой, каким его увидел Эванс. Интерес Эванса к изображению человека очень глубок и является движущей силой его творчества. Однако студийные портреты, сделанные в самом начале карьеры, не имели для него большого значения. Его гораздо больше интересовали анонимные лица, которые он видел в общественных местах, особенно в городах.
Термин «анонимные» нуждается в пояснении. Люди, которых фотографировал Эванс, не безлики, но Эванс не занимался изучением их психики или индивидуального взгляда на жизнь: люди интересовали его как главная часть культурно-исторического процесса.
В конце жизни он еще раз подчеркнул, насколько его завораживают глобальные процессы, в которые погружен человек. «Я очарован трудом человека, цивилизацией, которую он построил. На самом деле, я думаю, что это самое интересное в мире — то, что делает человек. Природа как форма искусства мне скорее скучна».
По Эвансу, человек важен именно как носитель такого культурного значения. То, как каждый в отдельности реализует эту задачу, интересовало Эванса в первую очередь, и он никогда не уставал от этой темы. Именно здесь мы сталкиваемся с его истинным художественным талантом, который проявился, например, в фотографиях, сделанных на улицах Нью-Йорка в 1930-м году: неизвестные нам люди на них, обретают спокойствие и достоинство, выделяющие их из безликой толпы. Эта же энергия, возникающая при непосредственной встрече с другим человеком, ощутима в полароидных снимках, сделанных в Нью-Хейвене в последние годы жизни Эванса.
По смыслу эти серии связаны тем, что фокус внимания каждой из них — человек, такой, каким его увидел Эванс. Интерес Эванса к изображению человека очень глубок и является движущей силой его творчества. Однако студийные портреты, сделанные в самом начале карьеры, не имели для него большого значения. Его гораздо больше интересовали анонимные лица, которые он видел в общественных местах, особенно в городах.
Термин «анонимные» нуждается в пояснении. Люди, которых фотографировал Эванс, не безлики, но Эванс не занимался изучением их психики или индивидуального взгляда на жизнь: люди интересовали его как главная часть культурно-исторического процесса.
В конце жизни он еще раз подчеркнул, насколько его завораживают глобальные процессы, в которые погружен человек. «Я очарован трудом человека, цивилизацией, которую он построил. На самом деле, я думаю, что это самое интересное в мире — то, что делает человек. Природа как форма искусства мне скорее скучна».
По Эвансу, человек важен именно как носитель такого культурного значения. То, как каждый в отдельности реализует эту задачу, интересовало Эванса в первую очередь, и он никогда не уставал от этой темы. Именно здесь мы сталкиваемся с его истинным художественным талантом, который проявился, например, в фотографиях, сделанных на улицах Нью-Йорка в 1930-м году: неизвестные нам люди на них, обретают спокойствие и достоинство, выделяющие их из безликой толпы. Эта же энергия, возникающая при непосредственной встрече с другим человеком, ощутима в полароидных снимках, сделанных в Нью-Хейвене в последние годы жизни Эванса.
Walker Evans, фотографии разных лет
Аналогом концепции Эванса можно назвать абстракцию, в которой форма отделена от конкретного опыта и является самоцелью. Он выступает против растворения человека и всего, что свидетельствует о нём, в исторической перспективе. О том, что трогало Эванса как человека и как художника, говорится в следующем тексте, написанном в 1938 году. Из него становится очевидной связь фотографической концепции Эванса с его особым взглядом на жизнь.
Текст начинается с цитаты Чарльза Флато о фотографе Мэтью Брэди, а затем переходит к краткому описанию собственной визуальной доктрины Эванса:
«Люди и их судьбы — это нечто гораздо более значительное, чем факторы, проясняющие историю, их величие существует само по себе, даже вне контекста грандиозных исторических событий. Нам нужно нечто большее, чем иллюстрации в утренних газетах: лица неизвестных нам людей, которые живут и умирают, переселяются с места на место. Именно на том, как они выглядят, что написано на их лицах, что заметно в их окнах и на улицах вокруг них, на чём они едут, как жестикулируют — именно на этом мы должны сознательно сосредоточиться при помощи камеры».
Историография в понимании Эванса — это изображение человека через рукотворные культурные формы, в которых он живёт и которые использует для интерпретации окружающего мира. Для Эванса они составляют идею «жизни».
Текст начинается с цитаты Чарльза Флато о фотографе Мэтью Брэди, а затем переходит к краткому описанию собственной визуальной доктрины Эванса:
«Люди и их судьбы — это нечто гораздо более значительное, чем факторы, проясняющие историю, их величие существует само по себе, даже вне контекста грандиозных исторических событий. Нам нужно нечто большее, чем иллюстрации в утренних газетах: лица неизвестных нам людей, которые живут и умирают, переселяются с места на место. Именно на том, как они выглядят, что написано на их лицах, что заметно в их окнах и на улицах вокруг них, на чём они едут, как жестикулируют — именно на этом мы должны сознательно сосредоточиться при помощи камеры».
Историография в понимании Эванса — это изображение человека через рукотворные культурные формы, в которых он живёт и которые использует для интерпретации окружающего мира. Для Эванса они составляют идею «жизни».
Фотографии Эванса разных лет
С самого начала творчество Эванса определялось небывалой внутренней свободой. Он принимал свои художественные решения интуитивно и без оглядки на преобладающие эстетические нормы. Он учитывал в своих работах меняющиеся технические параметры фотографии, например, новые типы камер, но прежде всего придерживался собственной концепции художественной необходимости, не обращая внимания на мнения окружающих. Можно говорить о самостоятельности Эванса, независимости, которая позволяла ему принимать решения в соответствии с собственными идеями.
Эта интеллектуальная независимость проявлена в его так называемых портретах в метро — первой обширной серии снимков, последовавшей за публикацией «Американских фотографий» в 1938 году. Снимками, сделанными между 1938 и 1941 годом в нью-йоркском метро, он решительно осваивал новые территории.
В тридцатые годы он почти исключительно фотографировал на открытом воздухе, используя камеру с большой пластиной. Обычно он устанавливал ее так, чтобы сделать фронтальный снимок, это позволяло точно выстроить кадр. Каждая деталь запечатлевалась чётко и, кроме того, очерчивалась под воздействием непрямого солнечного света.
Компактная камера, которой он пользовался во время поездок в метро, подняла его на новый художественный уровень. Дело было зимой, и он мог прятать камеру под пальто так, чтобы только объектив был открыт. Это позволяло фотографировать людей, сидящих напротив, не спрашивая разрешения. Результаты этих подземных съёмок идут вразрез с распространёнными в то время представлениями об идеально скомпонованной и идеально освещённой фотографии: фотограф лишь догадывается о том, что на самом деле запечатлеет камера. Он руководствуется исключительно своим опытом и интуицией. Лица и верхние части тел пассажиров, одетых в тяжелую зимнюю одежду, как бы наклоняются к нам из полумрака.
Полностью погруженные в свои внутренние миры, они смотрят на нас и одновременно вглядываются в пустоту. Таковы уникальные эпистемологические возможности, заложенные в этом подходе: уязвимость субъектов наделяет их откровенностью, которая не позволяет им принимать притворную позу, как это было бы перед видимой камерой.
«Маски сняты… лица людей в метро обнажены».
Здесь мы сталкиваемся с предвестником новой концепции фотографического изображения, которую Эванс искал за пределами студии с её предсказуемой художественной аурой. Фотограф больше не принимает облик гениального автора, в совершенстве владеющего камерой и её «трюками», придающими форму. Вместо этого он продуктивно использует то, что, казалось бы, должно ограничивать его технические возможности. Мы видим в нём своего рода «слепого пророка», наделённого, подобно Тиресию, способностью открывать истину, которая остаётся скрытой. Отказавшись от полного контроля над камерой, фотограф принимает элемент случайности в сочетании с новой концептуальной строгостью, автоматическим ритмом, ранее неизвестным в фотографии, который управляет затвором.
«Композиция — это слово школьного учителя», — как однажды самоуверенно выразился Эванс, чтобы отличить такой подход от собственного интуитивно управляемого метода.
Портреты в метро демонстрируют безудержную энергию, которую высвободил бунт против общепринятых представлений об искусстве. На этих снимках мы видим обновление не только формы, но и содержания: новое понимание индивидуальности возникает именно в анонимности. Неудивительно, что Шарковски обнаружил в этих фотографиях «поразительную индивидуальность персонажей Эванса, его товарищей по поездке — индивидуальность не столько их ролей, сколько их секретов».
Эта интеллектуальная независимость проявлена в его так называемых портретах в метро — первой обширной серии снимков, последовавшей за публикацией «Американских фотографий» в 1938 году. Снимками, сделанными между 1938 и 1941 годом в нью-йоркском метро, он решительно осваивал новые территории.
В тридцатые годы он почти исключительно фотографировал на открытом воздухе, используя камеру с большой пластиной. Обычно он устанавливал ее так, чтобы сделать фронтальный снимок, это позволяло точно выстроить кадр. Каждая деталь запечатлевалась чётко и, кроме того, очерчивалась под воздействием непрямого солнечного света.
Компактная камера, которой он пользовался во время поездок в метро, подняла его на новый художественный уровень. Дело было зимой, и он мог прятать камеру под пальто так, чтобы только объектив был открыт. Это позволяло фотографировать людей, сидящих напротив, не спрашивая разрешения. Результаты этих подземных съёмок идут вразрез с распространёнными в то время представлениями об идеально скомпонованной и идеально освещённой фотографии: фотограф лишь догадывается о том, что на самом деле запечатлеет камера. Он руководствуется исключительно своим опытом и интуицией. Лица и верхние части тел пассажиров, одетых в тяжелую зимнюю одежду, как бы наклоняются к нам из полумрака.
Полностью погруженные в свои внутренние миры, они смотрят на нас и одновременно вглядываются в пустоту. Таковы уникальные эпистемологические возможности, заложенные в этом подходе: уязвимость субъектов наделяет их откровенностью, которая не позволяет им принимать притворную позу, как это было бы перед видимой камерой.
«Маски сняты… лица людей в метро обнажены».
Здесь мы сталкиваемся с предвестником новой концепции фотографического изображения, которую Эванс искал за пределами студии с её предсказуемой художественной аурой. Фотограф больше не принимает облик гениального автора, в совершенстве владеющего камерой и её «трюками», придающими форму. Вместо этого он продуктивно использует то, что, казалось бы, должно ограничивать его технические возможности. Мы видим в нём своего рода «слепого пророка», наделённого, подобно Тиресию, способностью открывать истину, которая остаётся скрытой. Отказавшись от полного контроля над камерой, фотограф принимает элемент случайности в сочетании с новой концептуальной строгостью, автоматическим ритмом, ранее неизвестным в фотографии, который управляет затвором.
«Композиция — это слово школьного учителя», — как однажды самоуверенно выразился Эванс, чтобы отличить такой подход от собственного интуитивно управляемого метода.
Портреты в метро демонстрируют безудержную энергию, которую высвободил бунт против общепринятых представлений об искусстве. На этих снимках мы видим обновление не только формы, но и содержания: новое понимание индивидуальности возникает именно в анонимности. Неудивительно, что Шарковски обнаружил в этих фотографиях «поразительную индивидуальность персонажей Эванса, его товарищей по поездке — индивидуальность не столько их ролей, сколько их секретов».
Walker Evans, Subway Portraits
Ссылаясь на книгу Августа Зандера Antlitz der Zeit («Лицо нашего времени»), в которой люди предстают как представители той или иной профессиональной группы или социального класса в Германии, Эванс в 1931 году писал о «фотографическом редактировании общества, клиническом процессе», который станет важной задачей для фотографии будущего. С портретами в метро он сделал первый решительный шаг к такой форме социального анализа — объективной, освобождённой от личных предпочтений автора. Эта работа продолжится в Labor Anonymous («Анонимный труд», Fortune, 1946), где те же вопросы будут поставлены уже в других обстоятельствах. В Labor Anonymous объектом съёмки стали неизвестные люди в общественном пространстве, но камера переместилась из полумрака зимнего метро на оживлённую улицу Детройта летним днём. Там, на нейтральном фоне строительного забора, камера снимает людей, поодиночке или парами, большинство из которых, вероятно, возвращаются домой с работы.
Вооружившись среднеформатной камерой Rolleiflex, Эванс расположился на противоположной стороне улицы. Он смотрел не прямо на прохожих, а в видоискатель камеры, который зафиксировал в нужном положении. Прохожие, когда они появлялись в поле зрения, должно быть, казались ему тенями, и у Эванса была лишь доля секунды, чтобы решить, стоит ли делать снимок. В творческом процессе Эванс руководствовался открытостью, которая не знает ни точной композиции изображения, ни настройки фокуса.
Люди, которых он фотографирует, редко замечают камеру, потому что она установлена на некотором расстоянии. Они двигаются естественно, смотрят вниз, большинство погружены в свои мысли. Расстояние позволяет фотографу сконцентрироваться исключительно на фотографии, которую хотелось бы сделать, не отвлекая её героев. Из-за отсутствия интерпретации со стороны фотографа они почти не похожи на людей — скорее они обозначают социальные типы, дающие чёткое представление о социальной реальности.
«Городская улица расскажет вам столько же, сколько ваша утренняя газета. Один факт она не только расскажет, но и крепко убедит вас: все работают».
В серии Labor Anonymous представлен срез американского общества, запечатлевший уникальный дух этого периода после Второй мировой войны. Несмотря на то, что случайность играет важную роль — ведь невозможно было предугадать, кто именно пройдет мимо в тот час, — мы всё же убеждены, что на этих снимках запечатлено нечто реальное и действительное, выходящее за рамки мимолетного существования прохожих. Люди на фотографиях выглядят настолько убедительно, что невозможно допустить любую другую интерпретацию. Что касается фотографии, Уокер Эванс был уверен, что «ничто хорошее никогда не происходит, кроме как по ошибке», как отметил Линкольн Кирстейн в своем дневнике в 1931 году. Labor Anonymous свидетельствует о том, как художественная необходимость может возникнуть из кажущейся случайности.
Вооружившись среднеформатной камерой Rolleiflex, Эванс расположился на противоположной стороне улицы. Он смотрел не прямо на прохожих, а в видоискатель камеры, который зафиксировал в нужном положении. Прохожие, когда они появлялись в поле зрения, должно быть, казались ему тенями, и у Эванса была лишь доля секунды, чтобы решить, стоит ли делать снимок. В творческом процессе Эванс руководствовался открытостью, которая не знает ни точной композиции изображения, ни настройки фокуса.
Люди, которых он фотографирует, редко замечают камеру, потому что она установлена на некотором расстоянии. Они двигаются естественно, смотрят вниз, большинство погружены в свои мысли. Расстояние позволяет фотографу сконцентрироваться исключительно на фотографии, которую хотелось бы сделать, не отвлекая её героев. Из-за отсутствия интерпретации со стороны фотографа они почти не похожи на людей — скорее они обозначают социальные типы, дающие чёткое представление о социальной реальности.
«Городская улица расскажет вам столько же, сколько ваша утренняя газета. Один факт она не только расскажет, но и крепко убедит вас: все работают».
В серии Labor Anonymous представлен срез американского общества, запечатлевший уникальный дух этого периода после Второй мировой войны. Несмотря на то, что случайность играет важную роль — ведь невозможно было предугадать, кто именно пройдет мимо в тот час, — мы всё же убеждены, что на этих снимках запечатлено нечто реальное и действительное, выходящее за рамки мимолетного существования прохожих. Люди на фотографиях выглядят настолько убедительно, что невозможно допустить любую другую интерпретацию. Что касается фотографии, Уокер Эванс был уверен, что «ничто хорошее никогда не происходит, кроме как по ошибке», как отметил Линкольн Кирстейн в своем дневнике в 1931 году. Labor Anonymous свидетельствует о том, как художественная необходимость может возникнуть из кажущейся случайности.
Walker Evans, фотографии разных лет
Говоря об историческом значении творчества Эванса, становится очевидным, что не формальное обновление, а скорее изменение перспективы отличает его подход к фотографии от традиционного на тот момент точного описания значимых явлений видимого мира. В случае Эванса разница заключается в уникальности его взгляда и сознания. В работах Эванса можно наблюдать возвращение к анонимному мастерству ранней фотографии, мастерству, которое заменяет узнаваемый почерк автора, столь характерный для современного искусства. Искусство Эванса основано на личной сдержанности — это щит, за которым он может дать волю своему воображению.
Внутренняя независимость дала ему уверенность в себе, необходимую для того, чтобы запечатлеть красоту, казалось бы, обычных вещей, представив их как неоспоримые факты, находящиеся вне сферы личных впечатлений. Случайное и обыденное превращается в архетипическое и приобретает вид выражения порядка и нравственности. Отбирая отдельные, порой кажущиеся произвольными, фрагменты, можно сложить цельный образ общества и его культуры, которые, словно по волшебству, стали домом для целого поколения американцев.
Как писал Томас Мейбри в рецензии на «Американские фотографии» в 1938 году:
«Посмотрите через реку, на Истон, штат Пенсильвания. Кажется, это весенний день. Видно весь город. Я родился не в Пенсильвании, не в городе, и все же мне кажется, что я должен был родиться здесь».
В этом смысле нам вполне понятна оценка фотографии Эванса, данная Линкольном Кирштейном в названии этого очерка: «Хирург, оперирующий на живом теле времени».
Прежде всего, фотографии Эванса излучают неутолимую жажду жизни. Его восприимчивость к неопосредованному чувственному опыту мира была острой и глубокой, и это поднимает его изображения выше уровня простых документов.
Она — выражение бесконечного поиска человеком архимедовой точки мира — поиска, способного поглотить искателя: «Вещь сама по себе такая таинственная и недостижимая».
Внутренняя независимость дала ему уверенность в себе, необходимую для того, чтобы запечатлеть красоту, казалось бы, обычных вещей, представив их как неоспоримые факты, находящиеся вне сферы личных впечатлений. Случайное и обыденное превращается в архетипическое и приобретает вид выражения порядка и нравственности. Отбирая отдельные, порой кажущиеся произвольными, фрагменты, можно сложить цельный образ общества и его культуры, которые, словно по волшебству, стали домом для целого поколения американцев.
Как писал Томас Мейбри в рецензии на «Американские фотографии» в 1938 году:
«Посмотрите через реку, на Истон, штат Пенсильвания. Кажется, это весенний день. Видно весь город. Я родился не в Пенсильвании, не в городе, и все же мне кажется, что я должен был родиться здесь».
В этом смысле нам вполне понятна оценка фотографии Эванса, данная Линкольном Кирштейном в названии этого очерка: «Хирург, оперирующий на живом теле времени».
Прежде всего, фотографии Эванса излучают неутолимую жажду жизни. Его восприимчивость к неопосредованному чувственному опыту мира была острой и глубокой, и это поднимает его изображения выше уровня простых документов.
Она — выражение бесконечного поиска человеком архимедовой точки мира — поиска, способного поглотить искателя: «Вещь сама по себе такая таинственная и недостижимая».
Оригинал статьи опубликован в книге Walker Evans: Depth of Field, изданной в 2015 году издательством Prestel.