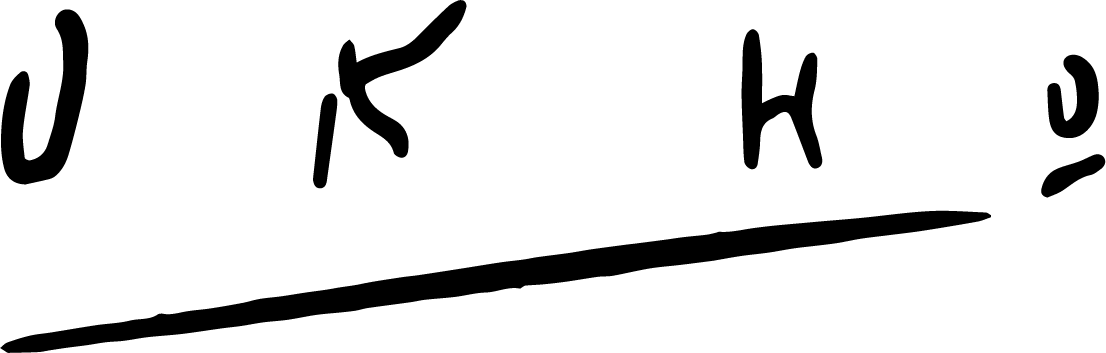ИДЕАЛЬНЫЙ заголовок
из книжки про ВОЛКЕРА
Обложка: Joel Sternfeld, Coeburn, Virginia, April 1981
Введение
Главная цель этой книги — показать необычайную широту и значимость художественной практики Уокера Эванса, которая началась в конце 1920-х годов и завершилась за несколько дней до его смерти в 1975 году. Один из шагов в этом направлении — вырвать Эванса и его работы из узкой категории «фотограф Великой депрессии». Этот слишком удобный ярлык упрощает и обедняет восприятие его достижений. Важно заново осмыслить гибкость взгляда Эванса — фотография была для него не самоцелью, а удобным инструментом на пути к более широким художественным задачам. Он не раз подчеркивал, что в его практике важны не столько сделанные камерой снимки, сколько сам взгляд.
Работы Эванса демонстрируют ненасытный глаз и процесс, который опирается не только на работу камеры. Сам Эванс сравнивал свой метод с практикой фланёра — фигуры, описанной Бодлером в XIX веке. Фланёр — это денди, бесцельно прогуливающийся по бульварам, не охотник за чем-то особенно интересным, а наблюдатель, способный находить интеллектуальное богатство в самых банальных деталях окружающей жизни. Схожим принципом руководствовалось движение Neue Sachlichkeit («Новая вещественность»), зародившееся в Германии в 1920-х годах. В нём можно разглядеть истоки модели, во многом определившей отношение Эванса к фотографии.
Главная цель этой книги — показать необычайную широту и значимость художественной практики Уокера Эванса, которая началась в конце 1920-х годов и завершилась за несколько дней до его смерти в 1975 году. Один из шагов в этом направлении — вырвать Эванса и его работы из узкой категории «фотограф Великой депрессии». Этот слишком удобный ярлык упрощает и обедняет восприятие его достижений. Важно заново осмыслить гибкость взгляда Эванса — фотография была для него не самоцелью, а удобным инструментом на пути к более широким художественным задачам. Он не раз подчеркивал, что в его практике важны не столько сделанные камерой снимки, сколько сам взгляд.
Работы Эванса демонстрируют ненасытный глаз и процесс, который опирается не только на работу камеры. Сам Эванс сравнивал свой метод с практикой фланёра — фигуры, описанной Бодлером в XIX веке. Фланёр — это денди, бесцельно прогуливающийся по бульварам, не охотник за чем-то особенно интересным, а наблюдатель, способный находить интеллектуальное богатство в самых банальных деталях окружающей жизни. Схожим принципом руководствовалось движение Neue Sachlichkeit («Новая вещественность»), зародившееся в Германии в 1920-х годах. В нём можно разглядеть истоки модели, во многом определившей отношение Эванса к фотографии.
Paul Graham из проектов A1, Beyond Caring, House Portraits
Эванс восхищался дневниками писателей Эдмона и Жюля Гонкуров, находя в них силу бесхитростной практики фланёра: каждый вечер братья записывали различные подробности своих прогулок по Парижу. Литературные корни Эванса и его врожденный визуальный дар позволили ему увидеть связь между этими непритязательными дневниками и его собственными документальными снимками. Переходя от литературной практики к изобразительному искусству, Эванс начал собирать печатные эфемеры — в частности, почтовые открытки — и позже называл их простоту важнейшим источником вдохновения. Вырезки из журналов — ироничные, абсурдные изображения — он монтировал с фрагментами текста, создавая альбомы в технике словесно-визуального коллажа. В начале 1930-х годов Эванс начал использовать в работах выразительные детали с киноафиш и дорожных указателей и впоследствии иронизировал, что именно он изобрёл поп-арт.
Однажды Джон Шарковски рассказал автору этой книги личную историю о страсти Эванса к типографике и лёгкости, с которой он присваивал понравившиеся артефакты. Вскоре после знакомства Джон пригласил Уокера на рождественский ужин. В тот вечер ему показали потрясающий подарок, который преподнесла Джону его жена — красивый деревянный футляр Викторианский эпохи с алфавитом из крупных резиновых штампов. Эванс внимательно рассмотрел подарок, выразил своё восхищение, а после ужина, надевая пальто и шляпу, небрежно засунул футляр под мышку и, извинившись, сказал, что этот алфавит должен принадлежать ему. После чего быстро ушёл. Спустя годы, уже после смерти Эванса, футляр с алфавитом был возвращён Шарковски. Интерес Эванса к буквам, словам и знакам был действительно велик, и, случалось, доводил до того, что сам Эванс игнорировал те нормы поведения, которых ожидал от других.
Однажды Джон Шарковски рассказал автору этой книги личную историю о страсти Эванса к типографике и лёгкости, с которой он присваивал понравившиеся артефакты. Вскоре после знакомства Джон пригласил Уокера на рождественский ужин. В тот вечер ему показали потрясающий подарок, который преподнесла Джону его жена — красивый деревянный футляр Викторианский эпохи с алфавитом из крупных резиновых штампов. Эванс внимательно рассмотрел подарок, выразил своё восхищение, а после ужина, надевая пальто и шляпу, небрежно засунул футляр под мышку и, извинившись, сказал, что этот алфавит должен принадлежать ему. После чего быстро ушёл. Спустя годы, уже после смерти Эванса, футляр с алфавитом был возвращён Шарковски. Интерес Эванса к буквам, словам и знакам был действительно велик, и, случалось, доводил до того, что сам Эванс игнорировал те нормы поведения, которых ожидал от других.
Paul Graham из проекта Beyond Caring
В середине 1960-х страсть Эванса к словесно-визуальным темам вспыхнула с новой силой — почти в турборежиме. В эти годы он начал собирать коллекцию вывесок и надписей. Иногда он фотографировал их, но нередко и просто воровал — днём или ночью. Эванс полагал, что для художника нет принципиальной разницы между фотографированием и присвоением: если художник что-то увидел, он должен «удовлетворить» своё видение, даже если это противоречит закону.
Несмотря на то, что Эванс признавался в любви к природе, в центре его внимания всегда оставались рукотворные объекты. И хотя он особенно выделял вывески и слова, вся повседневная визуальная среда — архитектура, реклама, одежда, мусор — становилась материалом для его лирических обобщений.
Одна из целей этой книги — показать гениальную способность Эванса превращать коммерческие заказы в произведения, отвечающие его собственным эстетическим принципам и в то же время удовлетворяющие требования заказчиков. Этот факт редко упоминается, но большинство фотографий Эванса были сделаны на заказ — исключение составляют лишь ранние и поздние работы (вторая половина 1960-х—1975 гг). Начиная с задания по съёмке викторианской архитектуры в 1931 году и заканчивая серией American Masonry («Американская каменная кладка») для журнала Fortune в 1965 году, почти всё, что он снимал, создавалось в рамках оплаченных проектов. Пожалуй, единственное исключение — портреты пассажиров нью-йоркского метро, снятые благодаря двум грантам Фонда Гуггенхайма.
Даже фотографии, вошедшие в Let Us Now Praise Famous Men («Теперь восхвалим славных мужей»), одно из его высочайших достижений, изначально были сделаны для Fortune. Художественная фотография никогда не была для Эванса самоцелью — и в этом он был последователен, начиная с первых заявлений о своём неприятии «искусства» как такового.
Несмотря на то, что Эванс признавался в любви к природе, в центре его внимания всегда оставались рукотворные объекты. И хотя он особенно выделял вывески и слова, вся повседневная визуальная среда — архитектура, реклама, одежда, мусор — становилась материалом для его лирических обобщений.
Одна из целей этой книги — показать гениальную способность Эванса превращать коммерческие заказы в произведения, отвечающие его собственным эстетическим принципам и в то же время удовлетворяющие требования заказчиков. Этот факт редко упоминается, но большинство фотографий Эванса были сделаны на заказ — исключение составляют лишь ранние и поздние работы (вторая половина 1960-х—1975 гг). Начиная с задания по съёмке викторианской архитектуры в 1931 году и заканчивая серией American Masonry («Американская каменная кладка») для журнала Fortune в 1965 году, почти всё, что он снимал, создавалось в рамках оплаченных проектов. Пожалуй, единственное исключение — портреты пассажиров нью-йоркского метро, снятые благодаря двум грантам Фонда Гуггенхайма.
Даже фотографии, вошедшие в Let Us Now Praise Famous Men («Теперь восхвалим славных мужей»), одно из его высочайших достижений, изначально были сделаны для Fortune. Художественная фотография никогда не была для Эванса самоцелью — и в этом он был последователен, начиная с первых заявлений о своём неприятии «искусства» как такового.
Paul Graham из проекта Troubled Land
Влияние фотографий, сделанных для Администрации по защите фермерских хозяйств (Farm Security Administration) в 1930-х годах, невозможно переоценить. Но было бы ошибкой рассматривать всю творческую работу Эванса через призму этого стиля, сформировавшегося меньше чем за два года. Даже если отвлечься от безусловного значения этих снимков, работы, созданные как до, так и после них дают Эвансу полное право на место в истории фотографии.
Особое внимание в книге уделяется новаторству Эванса в период после 1935—1936 годов. Вне контекста принадлежности к коммерческим съёмкам, фотографии, сделанные в середине карьеры, позволяют заново оценить масштаб его видения и художественной изобретательности. На протяжении двух десятилетий сотрудничества с Fortune Эванс оставался верен интересу к проблемам общественной жизни. При этом большинство заданий он придумывал сам — и называл эту деятельность «работой инкогнито»: воплощая, по сути, собственный художественный замысел, Эванс искусно убеждал работодателей, что трудится над их задачами. Участие в Fortune он выстраивал также, как и деятельность в рамках FSA. Это был человек, который заказывал на ужин surf and turf (основное блюдо, сочетающее морепродукты и красное мясо) — и, в общем-то, всегда получал то, что хотел. Найдётся немного ситуаций, в которых Эвансу не удалось бы получить и то и другое.
Стиль Эванса сложился под влиянием разнообразных впечатлений — как литературных, так и визуальных. По сути, это нечто большее, чем просто стиль: это развивающаяся серия стилей, выразительных решений. Выборка работ из любого периода его творчества подтверждает итоговую оценку Эванса как выдающегося американского фотографа. Сила его наследия выходит далеко за рамки национального контекста.
В создании этой книги приняли участие фотографы и писатели Алан Трахтенберг, Джерри Томпсон и Джон Т. Хилл. Они уделили немало времени размышлениям о личности и творчестве своего старого друга Уолкера Эванса. Возможно, это последний раз, когда в одной книге могут быть опубликованы три свидетельства из первых рук.
Особое внимание в книге уделяется новаторству Эванса в период после 1935—1936 годов. Вне контекста принадлежности к коммерческим съёмкам, фотографии, сделанные в середине карьеры, позволяют заново оценить масштаб его видения и художественной изобретательности. На протяжении двух десятилетий сотрудничества с Fortune Эванс оставался верен интересу к проблемам общественной жизни. При этом большинство заданий он придумывал сам — и называл эту деятельность «работой инкогнито»: воплощая, по сути, собственный художественный замысел, Эванс искусно убеждал работодателей, что трудится над их задачами. Участие в Fortune он выстраивал также, как и деятельность в рамках FSA. Это был человек, который заказывал на ужин surf and turf (основное блюдо, сочетающее морепродукты и красное мясо) — и, в общем-то, всегда получал то, что хотел. Найдётся немного ситуаций, в которых Эвансу не удалось бы получить и то и другое.
Стиль Эванса сложился под влиянием разнообразных впечатлений — как литературных, так и визуальных. По сути, это нечто большее, чем просто стиль: это развивающаяся серия стилей, выразительных решений. Выборка работ из любого периода его творчества подтверждает итоговую оценку Эванса как выдающегося американского фотографа. Сила его наследия выходит далеко за рамки национального контекста.
В создании этой книги приняли участие фотографы и писатели Алан Трахтенберг, Джерри Томпсон и Джон Т. Хилл. Они уделили немало времени размышлениям о личности и творчестве своего старого друга Уолкера Эванса. Возможно, это последний раз, когда в одной книге могут быть опубликованы три свидетельства из первых рук.
Джон Т. Хилл
Paul Graham книга Troubled Land
Добавить эпиграф
Когда в 1971 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке (MoMA: The Museum of Modern Art) прошла масштабная ретроспектива работ Уокера Эванса, куратор Джон Шарковски представил публике художника, который не просто сыграл важную роль в формировании фотографического языка XX века, но и стремился постичь суть американской идентичности — вне идеологических или политических рамок. Эванс показал стране её саму, предложил заглянуть в зеркало, увидеть богатство повседневной жизни. Никто и никогда не видел повседневность также ясно: не замечал, например, как просто украшенные деревянные дома в маленьких городках «сочетаются» с раскрашенными вручную рекламными щитами, создавая лаконичные образы. Эстетика общественных пространств — товары, автомобили, лица прохожих — стала для Эванса предметом серьезного художественного исследования, культурным феноменом первого порядка. В этом смысле ретроспектива в MoMA явилась одновременно и аллюзией на популярный тогда поп-арт, и приглашением отдать должное его подлинному предшественнику.
Выставка 1971 года стала новым открытием имени Эванса: несмотря на то, что в 1938 году в MoMA состоялась знаковая выставка American Photographs («Американские фотографии»), впоследствии его работы почти исчезли из поля зрения широкой аудитории. Лишь немногие по-настоящему осознавали их значение, а для среднестатистического зрителя 68-летний Эванс оставался незнакомой фигурой: его работа, прошлая и текущая, была практически неизвестна публике, интересующейся современным искусством. Все эти годы лишь небольшие группы ценителей воспринимали фотографию как искусство — в эстетическом, а не журналистском контексте. За редкими исключениями, фотография не была представлена ни на арт-рынке, ни в музеях. Дела обстояли так и в США, и в Европе, где фотографию вполне признали искусством лишь в 1990-х.
Именно поэтому кураторы MoMA стремились не только представить публике выдающегося мастера, но и подчеркнуть влияние его работ на новое поколение американских фотографов, заявивших о себе в середине 1960-х годов. В 1967 году Шарковски организовал выставку, объединившую работы молодых авторов — Дианы Арбус, Ли Фридлендера и Гарри Виногранда. Из-за своеобразной эстетики выставка вызвала полярные отклики. Название экспозиции — New Documents («Новые документы») — указывало на преемственность по отношению к объективному, лаконичному языку Эванса, но одновременно подчеркивало, что новое поколение стремится наполнить документальность более субъективным содержанием. Личная интонация становилась важной категорией.
Оглядываясь на выставки Уокера Эванса и его младших современников, а также на художественные задачи, которые они перед собой ставили, мы понимаем, что говорим уже о классиках. Арбус, Виногранд, Фридлендер — каждый из них сегодня признан создателем собственного независимого и самобытного визуального языка. Однако именно Эвансу в наибольшей степени удалось утвердить своё уникальное понимание фотографии — собственный подход, понятный лишь немногим в конце 1920-х. С тех пор Эванса справедливо считают реформатором медиума, ключевой фигурой, во многом определившей эстетику и вектор развития фотографии.
Давайте попробуем задаться вопросом, что именно составляет суть искусства этого признанного фотографа. На что он опирается, как можно описать его подлинные цели и выразительные средства? Ответы часто остаются туманными. В случае Эванса как нельзя более уместна мысль Гегеля: «То, что знакомо, не понимается именно потому, что оно знакомо» (What is familiar is not understood precisely because it is familiar). Это справедливо не только для работ Эванса, но и для исторического восприятия фотографии как таковой, по-прежнему изученной не столь глубоко, как живопись или скульптура. Предпосылки, художественные парадигмы и связи фотографии с литературой и изобразительным искусством по сей день исследованы лишь фрагментарно.
В творчестве Эванса мы видим не только эталон фотографии XX века, но и ключ к осознанию её эстетических категорий и уникальных возможностей. Его творчество напрямую связано с основополагающими вопросами медиума о соотношении изображения и окружающей действительности, или более точно: фотографии и социальной реальности человека. Что именно способно выразить фотографическое изображение? И как наделить это выражение устойчивой, долговечной формой?
Paul Graham из проекта New Europe
Концепция фотографии Уокера Эванса, которую мы так прочно связываем с Америкой — страной, где она возникла и расцвела, — во многом сформировалась под влиянием литературы модернизма. Именно с литературы, а вовсе не с визуального искусства, началось его творческое становление.
Родившись на Среднем Западе (Сент-Луис, Миссури), Эванс учился в частных школах на Восточном побережье, но с трудом воспринимал навязанные академические дисциплины. Учёба казалась скучной, и он вскоре оставил её. Однако именно в стенах библиотеки Колледжа Уильямса он впервые столкнулся с современной литературой, которая увлекла его. Книги стали его окном в мир, поводом осмыслить современность. Это произошло в начале 1920-х годов — в момент, когда американская и европейская литература переживали радикальное обновление, вызванное духовным и политическим кризисом Первой мировой войны и русской революции. Безжизненные формы девятнадцатого века были отброшены. На смену им пришла динамика современности — язык живой, разговорный, напрямую обращённый к реальности и эмоциям. Настоящее стало рассматриваться сквозь призму универсального человеческого опыта.
Эванс пристально следил за этими процессами, в том числе через публикации в журнале The Dial, одном из важнейших рупоров художественного модернизма. Именно там в ноябре 1922 года была опубликована новаторская поэма Т. С. Элиота «Бесплодная земля», там же печатались и ранние стихи Э. Э. Каммингса. Интеллектуальная резкость, беспристрастность высказывания, а у Каммингса — в том числе и обращение к живой речи: всё это оказало влияние на будущий стиль Эванса. В этих текстах он находил интонации, которые отозвались в его визуальном языке.
Эти литературные влияния были частью международного культурного обмена, особенно тесно связывавшего американских авторов с французскими. Неудивительно, что Эванс, чувствовавший себя чужим в американском обществе, отправился в 1926 году в Париж. Он надеялся выучить язык и глубже погрузиться в французскую литературу, мечтая стать писателем. Он переводил, читал и верил, что этот путь подготовит его к литературной карьере. Но эстетическое чутьё, уже развитое к тому времени, быстро подсказало ему: соответствовать собственным стандартам в слове он не сможет.
Вернувшись в США, Эванс обратился к фотографии. Первый интерес возник ещё в Европе — он делал туристические снимки на компактную камеру. Но вскоре понял: все, что он узнал, читая Флобера и Бодлера, применимо и в визуальном искусстве. Именно они, а также Пруст, Джойс и Хемингуэй стали его литературными ориентирами.
Родившись на Среднем Западе (Сент-Луис, Миссури), Эванс учился в частных школах на Восточном побережье, но с трудом воспринимал навязанные академические дисциплины. Учёба казалась скучной, и он вскоре оставил её. Однако именно в стенах библиотеки Колледжа Уильямса он впервые столкнулся с современной литературой, которая увлекла его. Книги стали его окном в мир, поводом осмыслить современность. Это произошло в начале 1920-х годов — в момент, когда американская и европейская литература переживали радикальное обновление, вызванное духовным и политическим кризисом Первой мировой войны и русской революции. Безжизненные формы девятнадцатого века были отброшены. На смену им пришла динамика современности — язык живой, разговорный, напрямую обращённый к реальности и эмоциям. Настоящее стало рассматриваться сквозь призму универсального человеческого опыта.
Эванс пристально следил за этими процессами, в том числе через публикации в журнале The Dial, одном из важнейших рупоров художественного модернизма. Именно там в ноябре 1922 года была опубликована новаторская поэма Т. С. Элиота «Бесплодная земля», там же печатались и ранние стихи Э. Э. Каммингса. Интеллектуальная резкость, беспристрастность высказывания, а у Каммингса — в том числе и обращение к живой речи: всё это оказало влияние на будущий стиль Эванса. В этих текстах он находил интонации, которые отозвались в его визуальном языке.
Эти литературные влияния были частью международного культурного обмена, особенно тесно связывавшего американских авторов с французскими. Неудивительно, что Эванс, чувствовавший себя чужим в американском обществе, отправился в 1926 году в Париж. Он надеялся выучить язык и глубже погрузиться в французскую литературу, мечтая стать писателем. Он переводил, читал и верил, что этот путь подготовит его к литературной карьере. Но эстетическое чутьё, уже развитое к тому времени, быстро подсказало ему: соответствовать собственным стандартам в слове он не сможет.
Вернувшись в США, Эванс обратился к фотографии. Первый интерес возник ещё в Европе — он делал туристические снимки на компактную камеру. Но вскоре понял: все, что он узнал, читая Флобера и Бодлера, применимо и в визуальном искусстве. Именно они, а также Пруст, Джойс и Хемингуэй стали его литературными ориентирами.
Фотография с кирпичами, о которой говорит Пол Грэм помещена на обложку
Когда в конце карьеры у Эванса спросили, кто повлиял на него в литературе, он без колебаний ответил: «Флобер — в первую очередь по методу. А Бодлер — по духу. Да, они определённо повлияли на меня, во всех смыслах... Тогда я этого не осознавал, но теперь понимаю: эстетика Флобера — абсолютно моя. Метод Флобера, я думаю, я впитал почти бессознательно, использовал и его реализм, и натурализм, и объективность трактовки; неявность автора, отсутствие субъективности». Рассматривая фотографии Эванса, легко понять, чем его привлекали эти писатели. Работы Эванса сродни взгляду, характерному для романов Флобера (беспощадный анализ французского среднего класса и его размытой морали). Взгляд Эванса — как и у Бодлера — блуждает по улицам, задерживается на проспектах, останавливается на том, что обычно маргинализировано. То, что казалось немым, обретает форму — иногда почти пугающую, но неизменно прекрасную. Материал, который интересен Эвансу — вовсе не в возвышенном. Он — в обыденности, в быте американского среднего класса. Именно эта жизнь с её тусклыми комнатами, вывесками, лицами может стать основой для подлинного художественного высказывания.
Как и у художника Эдварда Хоппера, чьё творческое пробуждение произошло в Париже на два десятилетия раньше, у Уокера Эванса знакомство с французским искусством сыграло решающую роль. Именно во Франции он впервые осознал, какие эстетические возможности скрываются в кажущейся прозаичности американской повседневности. Оба художника — и Хоппер, и Эванс — смотрели на Америку словно глазами посторонних. В этом отстранённом взгляде проявлялось новое, почти парадоксальное очарование обыденного. Их объединяла не только трезвость восприятия, но и пристрастие к архитектурным формам, которые в их работах словно оживали под действием света.
Полное освобождение американского искусства от влияния европейского культурного мейнстрима, от глубоко укоренившегося комплекса неполноценности по отношению к Старому Свету началось лишь около 1950 года с появлением абстрактного экспрессионизма. Это движение сформулировало новый художественный язык и этику, сознательно дистанцируясь от европейской традиции. Эванс и Хоппер в этом контексте принадлежали к его предвестникам. Неслучайно их первые выставки в Музее современного искусства прошли почти одновременно — в 1933 году.
Когда Хоппер окончательно вернулся из Европы в 1910 году после трёх длительных поездок, он ощущал себя чужим на родине: «Америка показалась мне ужасно грубой и сырой, — вспоминал он. — Мне потребовалось десять лет, чтобы забыть Европу». Эванс, обосновавшийся в Нью-Йорке после возвращения из Парижа, испытывал нечто схожее. Он не находил эмоционального отклика в обществе, находившемся во власти экономических... и культа посредственности, укорененного в пуританском каноне ценностей. (Его эмоции не находили отклика в обществе, где доминировали экономические цели и культ посредственности, укорененный в пуританском каноне ценностей). В отличие от французской культурной среды, где индивидуальная чувствительность и интеллектуальная независимость вызывали уважение, американская реальность казалась Эвансу враждебной. К тому же он жил впроголодь, перебиваясь случайными заработками — в том числе как клерк на Уолл-стрит.
Именно в эти годы у него сформировалась глубокая антипатия к капиталистической системе с её самодовольством и наивной верой в прогресс. За два дня до смерти, вспоминая то время на одной из лекций, он говорил: «Это было общество ненависти, и оно ожесточало всех людей моего поколения. Либо ты вливался в строй, либо тебя выталкивали… Я прыгал от радости, когда читал, как биржевые брокеры выбрасывались из окон! В тот день, когда в Мичигане лопнули банки, и всё рухнуло, на улицах Виллиджа все танцевали».
Как и у художника Эдварда Хоппера, чьё творческое пробуждение произошло в Париже на два десятилетия раньше, у Уокера Эванса знакомство с французским искусством сыграло решающую роль. Именно во Франции он впервые осознал, какие эстетические возможности скрываются в кажущейся прозаичности американской повседневности. Оба художника — и Хоппер, и Эванс — смотрели на Америку словно глазами посторонних. В этом отстранённом взгляде проявлялось новое, почти парадоксальное очарование обыденного. Их объединяла не только трезвость восприятия, но и пристрастие к архитектурным формам, которые в их работах словно оживали под действием света.
Полное освобождение американского искусства от влияния европейского культурного мейнстрима, от глубоко укоренившегося комплекса неполноценности по отношению к Старому Свету началось лишь около 1950 года с появлением абстрактного экспрессионизма. Это движение сформулировало новый художественный язык и этику, сознательно дистанцируясь от европейской традиции. Эванс и Хоппер в этом контексте принадлежали к его предвестникам. Неслучайно их первые выставки в Музее современного искусства прошли почти одновременно — в 1933 году.
Когда Хоппер окончательно вернулся из Европы в 1910 году после трёх длительных поездок, он ощущал себя чужим на родине: «Америка показалась мне ужасно грубой и сырой, — вспоминал он. — Мне потребовалось десять лет, чтобы забыть Европу». Эванс, обосновавшийся в Нью-Йорке после возвращения из Парижа, испытывал нечто схожее. Он не находил эмоционального отклика в обществе, находившемся во власти экономических... и культа посредственности, укорененного в пуританском каноне ценностей. (Его эмоции не находили отклика в обществе, где доминировали экономические цели и культ посредственности, укорененный в пуританском каноне ценностей). В отличие от французской культурной среды, где индивидуальная чувствительность и интеллектуальная независимость вызывали уважение, американская реальность казалась Эвансу враждебной. К тому же он жил впроголодь, перебиваясь случайными заработками — в том числе как клерк на Уолл-стрит.
Именно в эти годы у него сформировалась глубокая антипатия к капиталистической системе с её самодовольством и наивной верой в прогресс. За два дня до смерти, вспоминая то время на одной из лекций, он говорил: «Это было общество ненависти, и оно ожесточало всех людей моего поколения. Либо ты вливался в строй, либо тебя выталкивали… Я прыгал от радости, когда читал, как биржевые брокеры выбрасывались из окон! В тот день, когда в Мичигане лопнули банки, и всё рухнуло, на улицах Виллиджа все танцевали».
Paul Graham из проекта End of an Age
Чувство культурного и экономического отчуждения вскоре проявилось у Эванса во внимании к обычным людям, находившимся на обочине высокой культуры. В некотором смысле сам выбор фотографии и внимание к её художественным возможностям — выбор аутсайдера, человека, который не вписался в рамки современного ему общества. В отличие от писателей-модернистов, которые нарушали правила, но имели за спиной литературную традицию и академическое признание, фотографы работали на территории, статус которой ещё не был ясен. Так было, когда начинал Эванс.
Тем не менее, всего за несколько лет он сумел сформулировать собственное видение новой фотографии. Начав снимать в 1928 году, он первоначально ориентировался на эстетику «Нового видения», которая в то время активно развивалась в Германии и Советском Союзе.
Ласло Мохой-Надь, Александр Родченко, Эль Лисицкий — представители этого движения — создавали фотографию, отражавшую пульс эпохи: стремительное ускорение жизни, рост мегаполисов в результате индустриализации. Образы, которые создавали эти художники, казались драматичными — словно бы лишёнными опоры, твёрдой земли под ногами. Хотя ранние снимки Эванса были удивительно зрелыми, они всё-таки не демонстрировали всего, на что он способен. Эстетически они соответствовали тому пониманию формы, которое было характерно для «Нового видения». Небоскрёбы и их осевые линии (конструктивизм ради него самого) можно встретить в любом мегаполисе. Ранним снимкам не хватало собственной выразительной силы Эванса, интереса к самобытности американской культуры, характерного для его более поздних работ.
Однако вскоре собственный стиль Эванса начал проявляться отчётливо. Начиная с 1930 года, он неустанно исследовал Нью-Йорк — особенно Манхэттен и Бруклин, а также окраины. К 1933 году, когда Эванс фотографировал на Кубе, он нашёл свой уникальный визуальный язык и вместе с ним обрёл творческую уверенность — два важнейших элемента художественной практики.
Тем не менее, всего за несколько лет он сумел сформулировать собственное видение новой фотографии. Начав снимать в 1928 году, он первоначально ориентировался на эстетику «Нового видения», которая в то время активно развивалась в Германии и Советском Союзе.
Ласло Мохой-Надь, Александр Родченко, Эль Лисицкий — представители этого движения — создавали фотографию, отражавшую пульс эпохи: стремительное ускорение жизни, рост мегаполисов в результате индустриализации. Образы, которые создавали эти художники, казались драматичными — словно бы лишёнными опоры, твёрдой земли под ногами. Хотя ранние снимки Эванса были удивительно зрелыми, они всё-таки не демонстрировали всего, на что он способен. Эстетически они соответствовали тому пониманию формы, которое было характерно для «Нового видения». Небоскрёбы и их осевые линии (конструктивизм ради него самого) можно встретить в любом мегаполисе. Ранним снимкам не хватало собственной выразительной силы Эванса, интереса к самобытности американской культуры, характерного для его более поздних работ.
Однако вскоре собственный стиль Эванса начал проявляться отчётливо. Начиная с 1930 года, он неустанно исследовал Нью-Йорк — особенно Манхэттен и Бруклин, а также окраины. К 1933 году, когда Эванс фотографировал на Кубе, он нашёл свой уникальный визуальный язык и вместе с ним обрёл творческую уверенность — два важнейших элемента художественной практики.
Paul Graham из проекта Empty Heaven
С 1935 по 1938 год он работал на Федеральную администрацию по переселению (впоследствии — Farm Security Administration), главным образом на американском Юге. Целью программы было документирование жизни фермеров и жителей малых городов, пострадавших от Великой депрессии. Ожидалось, что снимки продемонстрируют эффективность государственных мер поддержки и послужат инструментом для мобилизации политической и общественной поддержки. Но Эванс хладнокровно проигнорировал эти задачи, последовательно развивая собственные темы, не подчиняясь идеологическим рамкам социальной фотографии. Он принципиально отстаивал право на независимость: «Никакой политики» — таков был его твёрдый девиз. Его интерес к современности шел глубже любых политических убеждений. Так в рамках социальной программы родилось искусство, которое не только сформировало представление о творчестве самого Эванса, но и заняло центральное место в истории фотографии как искусства. // И таким образом, в рамках программы, направленной на продвижение искусства и социального благосостояния, появился ряд работ, которые не только определяют наше восприятие творчества Эванса, но и наше представление о фотографии на самом высоком художественном уровне.
Его визуальный язык отличают сдержанность, отстранённость и интеллектуальная точность. Образы Эванса напоминают скульптуры: ясные, спокойные, без украшений и стилистических излишеств. Он избегал личного высказывания — в его кадрах главное место отведено объекту. Его привлекали темы, до того игнорируемые фотографией: рекламные вывески, лица безымянных жителей пригородов, анонимная архитектура, забытые уголки индустриального пейзажа. Он документировал и последствия депрессии, и стихийные бедствия, обрушившиеся на сельскую Америку. Но это была не фотография социальной драмы. Это было лицо нации — настоящее, не отретушированное, чуждое рекламному глянцу и патриотической риторике. Эванс показывал культурный космос массового общества, порождённого индустриализацией. Хотя это общество было лишено блеска, образования или очевидной утончённости, оно обладало собственной эстетикой и пластической выразительностью. Под его взглядом обыденное обретало неожиданную глубину, тривиальное — подлинную значимость.
По словам поэта Уильяма Карлоса Уильямса, который испытал сильное впечатление от книги American Photographs (1938):
«Мы видим самих себя, самих себя, вырванных из церковного окружения. Мы видим то, что до сих пор не осознавали, — мы сами становимся достойными в своей анонимности». // "It is ourselves we see, ourselves lifted from a parochial setting. We see what we have not heretofore realized, ourselves made worthy in our anonymity"
Подход Эванса к фотографии отличала бескомпромиссная прямота. Он отвергал всякую «художественность» ("artiness") — термин, которым он презрительно обозначал всё избыточное, манерное и искусственно приукрашенное. Это неприятие в первую очередь было направлено против Альфреда Стиглица и Эдварда Стайхена — фигур, доминировавших в американской фотографии его времени. Эванс вспоминал:
«Я чувствовал злость и желание идти в прямо противоположном направлении от этих людей».
В то время как Стиглиц все еще видел эстетику фотографического изображения в близости к живописи и пытался имитировать ее эффекты, подчеркивая авторскую субъективность, Эванс стремился к такой форме фотографии, которая сталкивается с социальной реальностью и использует возможности, заложенные в средстве, для точной фиксации видимого. Неудивительно, что одной из немногих фотографий, оказавших на него влияние, была работа Пола Стрэнда — портрет слепой женщины на улицах Нью-Йорка, беспощадно прямой образ.
Его визуальный язык отличают сдержанность, отстранённость и интеллектуальная точность. Образы Эванса напоминают скульптуры: ясные, спокойные, без украшений и стилистических излишеств. Он избегал личного высказывания — в его кадрах главное место отведено объекту. Его привлекали темы, до того игнорируемые фотографией: рекламные вывески, лица безымянных жителей пригородов, анонимная архитектура, забытые уголки индустриального пейзажа. Он документировал и последствия депрессии, и стихийные бедствия, обрушившиеся на сельскую Америку. Но это была не фотография социальной драмы. Это было лицо нации — настоящее, не отретушированное, чуждое рекламному глянцу и патриотической риторике. Эванс показывал культурный космос массового общества, порождённого индустриализацией. Хотя это общество было лишено блеска, образования или очевидной утончённости, оно обладало собственной эстетикой и пластической выразительностью. Под его взглядом обыденное обретало неожиданную глубину, тривиальное — подлинную значимость.
По словам поэта Уильяма Карлоса Уильямса, который испытал сильное впечатление от книги American Photographs (1938):
«Мы видим самих себя, самих себя, вырванных из церковного окружения. Мы видим то, что до сих пор не осознавали, — мы сами становимся достойными в своей анонимности». // "It is ourselves we see, ourselves lifted from a parochial setting. We see what we have not heretofore realized, ourselves made worthy in our anonymity"
Подход Эванса к фотографии отличала бескомпромиссная прямота. Он отвергал всякую «художественность» ("artiness") — термин, которым он презрительно обозначал всё избыточное, манерное и искусственно приукрашенное. Это неприятие в первую очередь было направлено против Альфреда Стиглица и Эдварда Стайхена — фигур, доминировавших в американской фотографии его времени. Эванс вспоминал:
«Я чувствовал злость и желание идти в прямо противоположном направлении от этих людей».
В то время как Стиглиц все еще видел эстетику фотографического изображения в близости к живописи и пытался имитировать ее эффекты, подчеркивая авторскую субъективность, Эванс стремился к такой форме фотографии, которая сталкивается с социальной реальностью и использует возможности, заложенные в средстве, для точной фиксации видимого. Неудивительно, что одной из немногих фотографий, оказавших на него влияние, была работа Пола Стрэнда — портрет слепой женщины на улицах Нью-Йорка, беспощадно прямой образ.
Paul Graham из проекта Television Portraits
Тематика работ Эванса также шла вразрез с привычными представлениями о «достойных» искусства сюжетах. Он с глубоким скепсисом относился к музейной модели искусства, считая, что истинный источник художественной энергии находится в непосредственной повседневности, в жизни, которая пульсирует на улицах. Там, где движение, город, люди.
Его эстетика опиралась на живую материю американского бессознательного народного творчества («American vernacular»), проявляющегося в вывесках, витринах, самодельной архитектуре, знаках и случайных деталях городской среды. Он ощущал в этом ту же аутентичность, что и в снимках Эжена Атже — фотографа, способного увидеть красоту в том, что миновали взгляды академиков. В снимках Атже Эванс находил подтверждение тому, что подлинная эстетика может прорастать через века, если она основана на внимании и мастерстве. // Он также встречал это в фотографиях Эжена Атже, в которых неискаженное, неакадемическое чувство красоты проявляется в исторической перспективе, уходящей корнями в глубину веков и в целом основанной на мастерстве. // He had also encountered this in the photographs of Eugène Atget, in which an unadulterated, nonacademic sense of beauty manifests itself within a historical perspective extending back for centuries and generally founded in craftsmanship."
Художественный стиль Эванса основывался на глубоком уважении к видимому миру и его явлениям. Его целью было скрупулёзно наблюдать и передавать их как можно яснее, без примеси личной предвзятости. Он хотел создавать документы, а не «искусство». При этом его метод не застревал на уровне грубого эмпиризма, характерного для журналистики или научной съёмки; он проникал во внутреннюю сферу, где наблюдаемые объекты заряжались воображением автора и наполнялись неожиданной жизненной силой.
Эванс балансировал на тонкой грани между внешней и внутренней реальностью. Он стремился показать эмпирический мир так, чтобы в нём отражалась и интимная реакция художника. Когда это удавалось, фотография, по его мнению, обретала подлинную силу и открывала трансцендентное измерение. Слепой, бесформенный мир словно отвечал человеку, обретая скрытый порядок. Изображение фиксировало этот эпифанический — по природе мимолётный — момент, не разрушая его эфемерности. Здесь возникает классический поиск равновесия и «воли к форме»: точка, в которой автор отказывается от личных предубеждений, подчиняясь структуре видимого. Это процесс прояснения существующего, а не открытие принципиально нового, как в композиции музыки. // Это представляет собой процесс прояснения в существующих обстоятельствах, а не открытие чего-то принципиально нового, как это было бы в случае сочинения. Художественная воля ограничена тяжестью реальности, которую нельзя «приправлять» субъективными добавками: чувственно воспринимаемое уже прекрасно само по себе и не нуждается в произвольной лепке.
Эванс стремился избежать явного присутствия автора в кадре. Личность со всеми биографическими симпатиями и антипатиями оставалась в тени; нравоучительный тон был ему отвратителен. Здесь он следовал завету Флобера: вещи оказывают большее воздействие, когда остаются «нетронутыми» в своей собственной реальности. И всё же факты, которые Эванс передавал максимально объективно, обретали своеобразную магию, потому что в их структуру проникает художественное волнение фотографа. Он видел предметы в новом свете, будто в первый день творения.
То, что на первый взгляд кажется простым документом, на деле становится личным высказыванием, привязанным к внешнему облику вещей и одновременно выходящим за его пределы. Молодой Эванс однажды сказал о снимках Атже: это «лирика-документ», не «поэзия улицы» или «поэзия Парижа», а проекция личности самого Атже. Тем же он определял и собственный метод, называя его «лирической документалистикой» — в отличие от простого документального импульса. // То, что на первый взгляд может показаться простым документированием видимого, на самом деле является личным выражением, которое привязывается к внешнему виду вещей и, таким образом, выходит за их пределы. Замечание молодого Эванса о фотографиях Атже относится и к его собственному художественному подходу, который он определил как "лирический документализм", чтобы отличить его от простого документального импульса. В случае Атже, по словам Эванса, речь идет о "поэзии, которая является не "поэзией улицы" или "поэзией Парижа", а проекцией личности Атже". // He views things in an entirely new light as if it were the first day of creation. What may at first appear to be a mere documentation of the visible is nevertheless a personal expression that binds itself to the appearance of things and, in doing so, transcends them. An observation a young Evans made about Atget's photographs also applies to his own artistic approach, which he defined as "lyric documentary" in order to distinguish it from a mere documentary impulse. In Atget's case, according to Evans, the issue is "a poetry which is not 'the poetry of the street' or 'the poetry of Paris' but the projection of Atget's person."
Его эстетика опиралась на живую материю американского бессознательного народного творчества («American vernacular»), проявляющегося в вывесках, витринах, самодельной архитектуре, знаках и случайных деталях городской среды. Он ощущал в этом ту же аутентичность, что и в снимках Эжена Атже — фотографа, способного увидеть красоту в том, что миновали взгляды академиков. В снимках Атже Эванс находил подтверждение тому, что подлинная эстетика может прорастать через века, если она основана на внимании и мастерстве. // Он также встречал это в фотографиях Эжена Атже, в которых неискаженное, неакадемическое чувство красоты проявляется в исторической перспективе, уходящей корнями в глубину веков и в целом основанной на мастерстве. // He had also encountered this in the photographs of Eugène Atget, in which an unadulterated, nonacademic sense of beauty manifests itself within a historical perspective extending back for centuries and generally founded in craftsmanship."
Художественный стиль Эванса основывался на глубоком уважении к видимому миру и его явлениям. Его целью было скрупулёзно наблюдать и передавать их как можно яснее, без примеси личной предвзятости. Он хотел создавать документы, а не «искусство». При этом его метод не застревал на уровне грубого эмпиризма, характерного для журналистики или научной съёмки; он проникал во внутреннюю сферу, где наблюдаемые объекты заряжались воображением автора и наполнялись неожиданной жизненной силой.
Эванс балансировал на тонкой грани между внешней и внутренней реальностью. Он стремился показать эмпирический мир так, чтобы в нём отражалась и интимная реакция художника. Когда это удавалось, фотография, по его мнению, обретала подлинную силу и открывала трансцендентное измерение. Слепой, бесформенный мир словно отвечал человеку, обретая скрытый порядок. Изображение фиксировало этот эпифанический — по природе мимолётный — момент, не разрушая его эфемерности. Здесь возникает классический поиск равновесия и «воли к форме»: точка, в которой автор отказывается от личных предубеждений, подчиняясь структуре видимого. Это процесс прояснения существующего, а не открытие принципиально нового, как в композиции музыки. // Это представляет собой процесс прояснения в существующих обстоятельствах, а не открытие чего-то принципиально нового, как это было бы в случае сочинения. Художественная воля ограничена тяжестью реальности, которую нельзя «приправлять» субъективными добавками: чувственно воспринимаемое уже прекрасно само по себе и не нуждается в произвольной лепке.
Эванс стремился избежать явного присутствия автора в кадре. Личность со всеми биографическими симпатиями и антипатиями оставалась в тени; нравоучительный тон был ему отвратителен. Здесь он следовал завету Флобера: вещи оказывают большее воздействие, когда остаются «нетронутыми» в своей собственной реальности. И всё же факты, которые Эванс передавал максимально объективно, обретали своеобразную магию, потому что в их структуру проникает художественное волнение фотографа. Он видел предметы в новом свете, будто в первый день творения.
То, что на первый взгляд кажется простым документом, на деле становится личным высказыванием, привязанным к внешнему облику вещей и одновременно выходящим за его пределы. Молодой Эванс однажды сказал о снимках Атже: это «лирика-документ», не «поэзия улицы» или «поэзия Парижа», а проекция личности самого Атже. Тем же он определял и собственный метод, называя его «лирической документалистикой» — в отличие от простого документального импульса. // То, что на первый взгляд может показаться простым документированием видимого, на самом деле является личным выражением, которое привязывается к внешнему виду вещей и, таким образом, выходит за их пределы. Замечание молодого Эванса о фотографиях Атже относится и к его собственному художественному подходу, который он определил как "лирический документализм", чтобы отличить его от простого документального импульса. В случае Атже, по словам Эванса, речь идет о "поэзии, которая является не "поэзией улицы" или "поэзией Парижа", а проекцией личности Атже". // He views things in an entirely new light as if it were the first day of creation. What may at first appear to be a mere documentation of the visible is nevertheless a personal expression that binds itself to the appearance of things and, in doing so, transcends them. An observation a young Evans made about Atget's photographs also applies to his own artistic approach, which he defined as "lyric documentary" in order to distinguish it from a mere documentary impulse. In Atget's case, according to Evans, the issue is "a poetry which is not 'the poetry of the street' or 'the poetry of Paris' but the projection of Atget's person."
Paul Graham из проекта The Present
Понятие «лирической документалистики», ключевое в эстетике Уокера Эванса, соотносится с термином «документальный стиль». Оно объединяет два полюса, определяющих его представление о художественном образе: беспристрастную фиксацию видимого и одновременно художественную интерпретацию, которая позволяет вещи выйти за пределы их эмпирического контекста.
Фотография, по Эвансу, делает мир видимым — и одновременно скрывает его. Она лишает вещи очевидности, выводя их за рамки утилитарного или функционального значения. Их подлинная ценность раскрывается именно в этой неоднозначности.
Вглядываясь в снимки Эванса, становится ясно: фотография как искусство начинается в той точке, где видимое соприкасается с невидимым. Здесь особенно важна его мысль:
«Документалистика? Это сложное и вводящее в заблуждение слово. У документа есть польза, тогда как искусство — бесполезно. Искусство никогда не станет документом, хотя может принять его стиль. Меня называют «фотографом-документалистом», но это требует тонкого понимания различия, о котором я говорю — и которое относительно ново».
Таким образом, эмпирическая точность, свойственная наукам, сталкивается с художественной правдоподобностью, которая действует в собственной плоскости — в плоскости чувственного, визуального. Для Эванса научное представление об истине — не единственно возможное. Более того, оно оказывается неспособным выразить сложность реальности.
Не случайно он предварил свою позднюю публикацию Message from the Interior, в которую вошло всего двенадцать фотографий и короткий текст Джона Шарковски, эпиграфом, заимствованным у Матисса (который тот в свою очередь позаимствовал у Делакруа):
«L’exactitude n’est pas la vérité» — «Точность не есть истина».
В понимании Эванса фотография не просто воспроизводит реальность, но интерпретирует её. Она стремится не только увидеть, но и понять, и эта попытка понимания находит форму в структуре изображения. В процессе съёмки художник как бы останавливает поток повседневности, которая в противном случае беспрерывно проливалась бы на нас. На фотографии эта реальность получает новый порядок, обретая смысл за пределами привычных шаблонов восприятия. То, что кажется банальным, вдруг становится странным, даже загадочным.
Такое изображение обнажает основу вещей — их архетипическую структуру — и вписывает единичное в более широкий контекст. Оно производит уникальную визуальную энергию, ту когнитивную вибрацию, которую Эванс связывал с трансцендентным.
Сегодня, как никогда прежде, восприятие фотографии путает изображённый предмет с его эстетикой. Так называемое «содержание» приравнивается к художественному высказыванию. Но в снимках Эванса, несмотря на очевидный интерес к социальной реальности, остаётся нечто, что выходит за пределы нарратива или анализа. Это — сам язык изображения, его собственная речь, его сущностное бытие как искусства.
Неудивительно, что сам Эванс в интервью и текстах ускользает от однозначных формулировок, избегает ограничивающих определений. То же касается и его фотографий. Они колеблются между историческим свидетельством — фиксацией конкретных фактов — и автономным художественным жестом, чистым визуальным присутствием, не сводимым к однозначной ссылке. Изображение у Эванса всегда превышает своё «содержание» — в нём есть эстетический избыток, который невозможно до конца постичь словами.
Фотография, по Эвансу, делает мир видимым — и одновременно скрывает его. Она лишает вещи очевидности, выводя их за рамки утилитарного или функционального значения. Их подлинная ценность раскрывается именно в этой неоднозначности.
Вглядываясь в снимки Эванса, становится ясно: фотография как искусство начинается в той точке, где видимое соприкасается с невидимым. Здесь особенно важна его мысль:
«Документалистика? Это сложное и вводящее в заблуждение слово. У документа есть польза, тогда как искусство — бесполезно. Искусство никогда не станет документом, хотя может принять его стиль. Меня называют «фотографом-документалистом», но это требует тонкого понимания различия, о котором я говорю — и которое относительно ново».
Таким образом, эмпирическая точность, свойственная наукам, сталкивается с художественной правдоподобностью, которая действует в собственной плоскости — в плоскости чувственного, визуального. Для Эванса научное представление об истине — не единственно возможное. Более того, оно оказывается неспособным выразить сложность реальности.
Не случайно он предварил свою позднюю публикацию Message from the Interior, в которую вошло всего двенадцать фотографий и короткий текст Джона Шарковски, эпиграфом, заимствованным у Матисса (который тот в свою очередь позаимствовал у Делакруа):
«L’exactitude n’est pas la vérité» — «Точность не есть истина».
В понимании Эванса фотография не просто воспроизводит реальность, но интерпретирует её. Она стремится не только увидеть, но и понять, и эта попытка понимания находит форму в структуре изображения. В процессе съёмки художник как бы останавливает поток повседневности, которая в противном случае беспрерывно проливалась бы на нас. На фотографии эта реальность получает новый порядок, обретая смысл за пределами привычных шаблонов восприятия. То, что кажется банальным, вдруг становится странным, даже загадочным.
Такое изображение обнажает основу вещей — их архетипическую структуру — и вписывает единичное в более широкий контекст. Оно производит уникальную визуальную энергию, ту когнитивную вибрацию, которую Эванс связывал с трансцендентным.
Сегодня, как никогда прежде, восприятие фотографии путает изображённый предмет с его эстетикой. Так называемое «содержание» приравнивается к художественному высказыванию. Но в снимках Эванса, несмотря на очевидный интерес к социальной реальности, остаётся нечто, что выходит за пределы нарратива или анализа. Это — сам язык изображения, его собственная речь, его сущностное бытие как искусства.
Неудивительно, что сам Эванс в интервью и текстах ускользает от однозначных формулировок, избегает ограничивающих определений. То же касается и его фотографий. Они колеблются между историческим свидетельством — фиксацией конкретных фактов — и автономным художественным жестом, чистым визуальным присутствием, не сводимым к однозначной ссылке. Изображение у Эванса всегда превышает своё «содержание» — в нём есть эстетический избыток, который невозможно до конца постичь словами.
Paul Graham из проекта shimmer of possibility
Отвечая на вопрос о многозначности своих фотографий 1930-х годов, он признал, что историографический импульс действительно был важен:
«Да, я занимался социальной историей».
Его интересовали формы существования времени — архитектура, реклама, одежда, автомобили — всё, что связывало внешнее с частным. Эти явления имели для него не только текущую, но и культурную значимость. Его взгляд работал как взгляд историка: он выхватывал из настоящего элементы, которые в будущем могли бы восприниматься как знаковые для ушедшей эпохи.
Эванса занимал вопрос: как сегодняшнее будет выглядеть как прошедшее? Он стремился не просто документировать настоящее, а наделять его тем весом, который делает его частью коллективной памяти.
Эванс был глубоко убеждён — и это различие он считал принципиальным — что фотография может по-настоящему выполнить свою задачу только тогда, когда находит собственный, независимый визуальный язык.
«В тысячный раз приходится повторять: фотографии должны говорить сами за себя, визуально — или они проваливаются».
Недостаточно просто зафиксировать вещи и события в нейтральной, анонимной манере. Без художественного содержания такие снимки становятся «слепыми документами», и они быстро теряют значимость, как только изображённый на них исторический момент перестаёт быть актуальным. Именно иконическая насыщенность фотографии, её визуальная сила, гарантирует, что она будет жить — и волновать — в будущем.
Это напряжение между документальностью и художественным высказыванием особенно ощутимо в творчестве Эванса 1940-х годов, когда он сотрудничал с журналом Fortune. В 1945 году он стал штатным фотографом издания, что дало ему финансовую стабильность и творческую свободу для разработки собственных идей. Хотя все снимки создавались по заказу, они обладали высокой степенью художественной самостоятельности. Сцены, снятые на улицах Бриджпорта, Детройта и Чикаго, впоследствии публиковались в журнале в формате фоторассказов, но при этом полностью отражали внутренние поиски и установки самого Эванса.
Эти серии работ объединяет чёткая фокусировка на человеке — центральной фигуре его визуального мышления. Интерес Эванса к человеку был глубоким и определяющим для его метода. Но при этом он избегал классических портретных подходов: студийные изображения, которые он делал в начале своей карьеры, никогда не были для него приоритетом. Куда больше его привлекали анонимные лица — люди, которых он встречал в общественных пространствах, прежде всего в городах.
Слово «анонимный» здесь следует понимать не как «безличный». Напротив, герои Эванса полны индивидуальности. Но фотограф избегает психологизации, не пытается проникнуть в их внутренний мир. Его интерес сосредоточен на человеке как элементе культурного и исторического контекста.
В одном из своих поздних интервью Эванс подтвердил это направление:
«Меня очаровывает работа человека и цивилизация, которую он построил. Думаю, это самое интересное в мире — то, что делает человек. Природа как искусство мне скорее скучна».
Для Эванса человеческая активность, следы которой остаются в архитектуре, рекламе, одежде, уличных жестах и бытовых предметах, — это и есть подлинная материя культуры. В этих отпечатках он искал смысл, который превращал индивида в выразителя целой эпохи. Именно здесь зарождается его художественный импульс, видимый уже в ранних снимках Нью-Йорка 1930-х годов. Люди, чьи имена мы не знаем, обретают в его кадрах достоинство и спокойствие, позволяющее им выйти из толпы и обрести иконический статус. Та же энергия ощущается в поздних полароидных снимках, сделанных уже в частной обстановке в Нью-Хейвене — в этих немногословных образах Эванс снова встречается с человеком лицом к лицу.
«Да, я занимался социальной историей».
Его интересовали формы существования времени — архитектура, реклама, одежда, автомобили — всё, что связывало внешнее с частным. Эти явления имели для него не только текущую, но и культурную значимость. Его взгляд работал как взгляд историка: он выхватывал из настоящего элементы, которые в будущем могли бы восприниматься как знаковые для ушедшей эпохи.
Эванса занимал вопрос: как сегодняшнее будет выглядеть как прошедшее? Он стремился не просто документировать настоящее, а наделять его тем весом, который делает его частью коллективной памяти.
Эванс был глубоко убеждён — и это различие он считал принципиальным — что фотография может по-настоящему выполнить свою задачу только тогда, когда находит собственный, независимый визуальный язык.
«В тысячный раз приходится повторять: фотографии должны говорить сами за себя, визуально — или они проваливаются».
Недостаточно просто зафиксировать вещи и события в нейтральной, анонимной манере. Без художественного содержания такие снимки становятся «слепыми документами», и они быстро теряют значимость, как только изображённый на них исторический момент перестаёт быть актуальным. Именно иконическая насыщенность фотографии, её визуальная сила, гарантирует, что она будет жить — и волновать — в будущем.
Это напряжение между документальностью и художественным высказыванием особенно ощутимо в творчестве Эванса 1940-х годов, когда он сотрудничал с журналом Fortune. В 1945 году он стал штатным фотографом издания, что дало ему финансовую стабильность и творческую свободу для разработки собственных идей. Хотя все снимки создавались по заказу, они обладали высокой степенью художественной самостоятельности. Сцены, снятые на улицах Бриджпорта, Детройта и Чикаго, впоследствии публиковались в журнале в формате фоторассказов, но при этом полностью отражали внутренние поиски и установки самого Эванса.
Эти серии работ объединяет чёткая фокусировка на человеке — центральной фигуре его визуального мышления. Интерес Эванса к человеку был глубоким и определяющим для его метода. Но при этом он избегал классических портретных подходов: студийные изображения, которые он делал в начале своей карьеры, никогда не были для него приоритетом. Куда больше его привлекали анонимные лица — люди, которых он встречал в общественных пространствах, прежде всего в городах.
Слово «анонимный» здесь следует понимать не как «безличный». Напротив, герои Эванса полны индивидуальности. Но фотограф избегает психологизации, не пытается проникнуть в их внутренний мир. Его интерес сосредоточен на человеке как элементе культурного и исторического контекста.
В одном из своих поздних интервью Эванс подтвердил это направление:
«Меня очаровывает работа человека и цивилизация, которую он построил. Думаю, это самое интересное в мире — то, что делает человек. Природа как искусство мне скорее скучна».
Для Эванса человеческая активность, следы которой остаются в архитектуре, рекламе, одежде, уличных жестах и бытовых предметах, — это и есть подлинная материя культуры. В этих отпечатках он искал смысл, который превращал индивида в выразителя целой эпохи. Именно здесь зарождается его художественный импульс, видимый уже в ранних снимках Нью-Йорка 1930-х годов. Люди, чьи имена мы не знаем, обретают в его кадрах достоинство и спокойствие, позволяющее им выйти из толпы и обрести иконический статус. Та же энергия ощущается в поздних полароидных снимках, сделанных уже в частной обстановке в Нью-Хейвене — в этих немногословных образах Эванс снова встречается с человеком лицом к лицу.
Прямой противоположностью его эстетики была абстракция — подход, в котором форма отделяется от конкретного опыта и становится самоцелью. Эванс с подозрением относился к этому типу художественного мышления. Для него незаменимым элементом искусства была идиосинкразия — особенность, отличительное выражение, отпечаток конкретного человека. Он выступал против растворения индивидуального в обобщающих исторических нарративах.
Эванса интересовала не идея «исторической важности» сама по себе, а именно то, что трогает, волнует, задевает. Его фотография — это способ быть внимательным к миру и к человеку в нём. Об этом говорит и текст, написанный им в 1938 году, который ясно показывает, насколько его фотографический метод связан с особым взглядом на жизнь — внимательным, точным и исполненным внутреннего уважения.
Этот текст начинается с цитаты Чарльза Флато о фотографе Мэтью Брэди, за которой следует своего рода манифест самого Уокера Эванса — краткое, но ёмкое изложение его визуальной доктрины:
«Человеческие существа гораздо важнее разъясняющих факторов истории; сами по себе они обладают величием, не зависящим от впечатляющей структуры исторического нарратива. История состоит из моментов и мгновений, и нам не нужны военные баталии, чтобы выразить конфликты, передать движение и перемены или зафиксировать те же самые конфликты, что со временем становятся телом цивилизационной истории. Но нам нужно нечто большее, чем иллюстрации в утренних газетах нашего времени... Ведь если вдуматься, весь этот общий ход социальной мельницы — это прежде всего безымянные люди, которые приходят и уходят в городах, двигаются по земле; именно на том, как они выглядят сейчас, что написано на их лицах, в окнах и на улицах рядом с ними и вокруг них, что на них надето, на чём они едут и как они жестикулируют, — именно на этом мы должны сознательно сосредоточиться с помощью камеры».
В представлении Эванса история — это человек, изображённый через окружающие его рукотворные формы, через повседневную материальную культуру, в которой он живёт и которую сам создает. В этих вещах и проявляется, по мнению Эванса, подлинное содержание «жизни».
Эванса интересовала не идея «исторической важности» сама по себе, а именно то, что трогает, волнует, задевает. Его фотография — это способ быть внимательным к миру и к человеку в нём. Об этом говорит и текст, написанный им в 1938 году, который ясно показывает, насколько его фотографический метод связан с особым взглядом на жизнь — внимательным, точным и исполненным внутреннего уважения.
Этот текст начинается с цитаты Чарльза Флато о фотографе Мэтью Брэди, за которой следует своего рода манифест самого Уокера Эванса — краткое, но ёмкое изложение его визуальной доктрины:
«Человеческие существа гораздо важнее разъясняющих факторов истории; сами по себе они обладают величием, не зависящим от впечатляющей структуры исторического нарратива. История состоит из моментов и мгновений, и нам не нужны военные баталии, чтобы выразить конфликты, передать движение и перемены или зафиксировать те же самые конфликты, что со временем становятся телом цивилизационной истории. Но нам нужно нечто большее, чем иллюстрации в утренних газетах нашего времени... Ведь если вдуматься, весь этот общий ход социальной мельницы — это прежде всего безымянные люди, которые приходят и уходят в городах, двигаются по земле; именно на том, как они выглядят сейчас, что написано на их лицах, в окнах и на улицах рядом с ними и вокруг них, что на них надето, на чём они едут и как они жестикулируют, — именно на этом мы должны сознательно сосредоточиться с помощью камеры».
В представлении Эванса история — это человек, изображённый через окружающие его рукотворные формы, через повседневную материальную культуру, в которой он живёт и которую сам создает. В этих вещах и проявляется, по мнению Эванса, подлинное содержание «жизни».
С самого начала его творчество определяло внутреннее чувство свободы. Он принимал художественные решения интуитивно, не ориентируясь на доминирующие эстетические стандарты. Он учитывал внешние переменные, например, смену техники и появление новых типов камер, но при этом неуклонно следовал своему внутреннему понятию художественной необходимости, игнорируя мнения и ожидания окружающих. Это автономия мышления — почти упрямая, но продуктивная — позволяла ему развивать фотографию как личную и одновременно универсальную практику.
Эта независимость проявилась особенно ярко в серии «портретов в метро», первой крупной работе после публикации American Photographs в 1938 году. Снимки были сделаны между 1938 и 1941 годами в нью-йоркском метро — среде, кардинально отличной от привычного для него уличного пространства. В 1930-е он почти исключительно работал с громоздкой камерой с большой пластиной, фотографируя при естественном свете, тщательно выстраивая фронтальную композицию, добиваясь детальной точности и мягкой модуляции света.
Но в метро всё было иначе. Эванс использовал компактную камеру, спрятанную под пальто. Только объектив оставался открытым, и он мог снимать пассажиров, сидящих напротив, незаметно для них. Эти условия диктовали новый метод: никакого предварительного кадрирования, никакого освещения — лишь интуиция и опыт. Он не мог быть уверен в результате, но именно эта неопределенность стала источником нового художественного языка.
На этих снимках фигуры людей, облачённые в тяжёлую зимнюю одежду, словно наклоняются к зрителю из полумрака. Погружённые в себя, они одновременно смотрят сквозь камеру и внутрь себя. В этой уязвимости, в моменте, когда они не позируют, не защищаются от взгляда, возникает подлинная откровенность. Их лица — лишённые маски, беззащитные, в состоянии внутреннего покоя — становятся носителями истины, которую невозможно воспроизвести в условиях студийной съёмки.
«Охрана ослаблена, маска снята... лица людей в метро находятся в обнажённом покое».
Здесь начинает формироваться новая концепция фотографии, в которой автор больше не выступает как всеведущий дирижёр, «мастер формы». Эванс сознательно отказывается от полного контроля, позволяя случайности и техническим ограничениям стать частью высказывания. Он больше похож не на мастера, а на слепого пророка, своего рода Тиресия, открывающего зрение в темноте. В сочетании с точной интуицией это рождает новый ритм, автоматизм, ранее неизвестный в художественной фотографии.
«Композиция — это слово школьного учителя», — как-то язвительно заметил Эванс, подчеркивая дистанцию между собой и академическим подходом.
Серия «портретов в метро» — это не просто новаторская форма, но и содержательное открытие. Здесь появляется понимание личности через анонимность, парадоксальное, но точное: индивидуальность возникает не благодаря позе, а в её отсутствии. Неудивительно, что Джон Шарковски отметил в этих работах «поразительную индивидуальность субъектов Эванса — индивидуальность, проявляющуюся не в их ролях и социальных функциях, а в их тайнах».
Ссылаясь на книгу Августа Зандера Antlitz der Zeit (Лицо нашего времени), в которой человек представлен через принадлежность к социальной группе или профессии в Германии 1920-х годов, Уокер Эванс в 1931 году писал о «фотографическом редактировании общества, клиническом процессе», который, по его мнению, должен был стать одной из главных задач будущей фотографии.
Эта независимость проявилась особенно ярко в серии «портретов в метро», первой крупной работе после публикации American Photographs в 1938 году. Снимки были сделаны между 1938 и 1941 годами в нью-йоркском метро — среде, кардинально отличной от привычного для него уличного пространства. В 1930-е он почти исключительно работал с громоздкой камерой с большой пластиной, фотографируя при естественном свете, тщательно выстраивая фронтальную композицию, добиваясь детальной точности и мягкой модуляции света.
Но в метро всё было иначе. Эванс использовал компактную камеру, спрятанную под пальто. Только объектив оставался открытым, и он мог снимать пассажиров, сидящих напротив, незаметно для них. Эти условия диктовали новый метод: никакого предварительного кадрирования, никакого освещения — лишь интуиция и опыт. Он не мог быть уверен в результате, но именно эта неопределенность стала источником нового художественного языка.
На этих снимках фигуры людей, облачённые в тяжёлую зимнюю одежду, словно наклоняются к зрителю из полумрака. Погружённые в себя, они одновременно смотрят сквозь камеру и внутрь себя. В этой уязвимости, в моменте, когда они не позируют, не защищаются от взгляда, возникает подлинная откровенность. Их лица — лишённые маски, беззащитные, в состоянии внутреннего покоя — становятся носителями истины, которую невозможно воспроизвести в условиях студийной съёмки.
«Охрана ослаблена, маска снята... лица людей в метро находятся в обнажённом покое».
Здесь начинает формироваться новая концепция фотографии, в которой автор больше не выступает как всеведущий дирижёр, «мастер формы». Эванс сознательно отказывается от полного контроля, позволяя случайности и техническим ограничениям стать частью высказывания. Он больше похож не на мастера, а на слепого пророка, своего рода Тиресия, открывающего зрение в темноте. В сочетании с точной интуицией это рождает новый ритм, автоматизм, ранее неизвестный в художественной фотографии.
«Композиция — это слово школьного учителя», — как-то язвительно заметил Эванс, подчеркивая дистанцию между собой и академическим подходом.
Серия «портретов в метро» — это не просто новаторская форма, но и содержательное открытие. Здесь появляется понимание личности через анонимность, парадоксальное, но точное: индивидуальность возникает не благодаря позе, а в её отсутствии. Неудивительно, что Джон Шарковски отметил в этих работах «поразительную индивидуальность субъектов Эванса — индивидуальность, проявляющуюся не в их ролях и социальных функциях, а в их тайнах».
Ссылаясь на книгу Августа Зандера Antlitz der Zeit (Лицо нашего времени), в которой человек представлен через принадлежность к социальной группе или профессии в Германии 1920-х годов, Уокер Эванс в 1931 году писал о «фотографическом редактировании общества, клиническом процессе», который, по его мнению, должен был стать одной из главных задач будущей фотографии.
Своим проектом Портреты в метро он сделал первый шаг к подобной объективной форме социального анализа — подходу, освобождённому от авторских предпочтений и оценок. Эта линия продолжается в серии Анонимный труд, опубликованной в журнале Fortune в 1946 году. Здесь та же идея получает иное воплощение: снова — анонимные фигуры в общественном пространстве, но теперь камера выходит из полумрака подземки на залитые летним солнцем улицы Детройта. Фоном служит строительный забор — нейтральный, лишённый контекста. Люди идут поодиночке или парами, возможно, возвращаясь с работы.
Эванс, вооружённый среднеформатной камерой Rolleiflex, располагался по другую сторону улицы. Он не смотрел прямо на прохожих, а заглядывал в верхний видоискатель камеры, которую зафиксировал на уровне груди. Люди проходили мимо, как тени, и у него была лишь доля секунды, чтобы принять решение — снимать или нет. Как и в случае с метрополитеном, процесс съёмки не предполагал точной композиции или тщательной фокусировки: здесь правили интуиция и доверие к случайности.
Почти никто из прохожих не замечал камеры — она была достаточно далека, чтобы остаться незаметной, и это позволяло сохранить естественность момента. Люди двигались свободно, с опущенными взглядами, погружённые в свои дела. Дистанция становилась не преградой, а необходимым условием: она освобождала фотографа от необходимости "интерпретировать" объект, оставляя пространство самой реальности. В этом безличном, отстранённом взгляде они теряли индивидуальные черты, превращаясь в социальные типы.
«Уличная сцена расскажет вам не меньше, чем утренняя газета. Один факт она не только передаёт, но буквально вбивает в вас: все работают».
Этот обзор фиксирует срез американского общества — момент времени, наступивший вскоре после окончания Второй мировой войны. И хотя случай играет огромную роль — ведь невозможно предугадать, кто именно окажется перед камерой, — снимки Эванса всё же убеждают нас: в них есть нечто подлинное и прочное, не сводящееся к мимолётности.
Их нельзя трактовать как простой поток прохожих. Фигуры, застывшие в кадре, приобретают вес: они слишком внушительны в своём молчаливом, неизменном присутствии, чтобы быть случайными. Это не просто документ, это визуальное доказательство бытия. Сам Эванс верил, что в фотографии «ничего хорошего не происходит иначе как по ошибке» — фраза, записанная Линкольном Кирстейном в дневнике 1931 года.
Именно в этой способности извлечь смысл из кажущейся случайности Анонимный труд раскрывает свою художественную необходимость. Подводя итог значению Эванса для истории фотографии, становится ясно: речь идёт не о формальных инновациях, а об изменении самого подхода к реальности. Эванс сместил фокус с традиционного стремления к описанию внешне «значимого» на пристальный взгляд внутрь обыденного. Его фотография — это акт внимания, а не интерпретации.
Работы Эванса демонстрируют возвращение к анонимному мастерству ранней фотографии — к ремеслу, где выражение заменяет авторский жест. Он сознательно устраняет своё «я» из кадра, защищая внутреннюю свободу, в которой может родиться образ. Эта сдержанность становится щитом, за которым художник даёт волю своему воображению.
Такое отношение к изображаемому позволило Эвансу превращать банальное в знаковое: случайное становилось вечным, обыденное — символическим. Его фотографии не столько рассказывают о людях, сколько создают возможность увидеть, что значит быть частью общества. Отдельные, на первый взгляд случайные, фрагменты складываются в картину культурного ландшафта, ставшего домом для целого поколения.
Томас Мейбри, рецензируя Американские фотографии в 1938 году, писал:
«Посмотрите через реку, на Истон, штат Пенсильвания. Похоже, весенний день. Весь город лежит перед вами. Я не родился ни в Пенсильвании, ни в городе — и всё же мне кажется, что я должен был родиться именно здесь».
Такой эффект принадлежности, глубокого узнавания — один из главных даров Эванса как художника. Линкольн Кирстейн недаром назвал его фотографию «хирургией на текучем теле времени».
Но прежде всего, в фотографиях Эванса ощущается неутолимый аппетит к жизни. Его чувствительность к телесной реальности мира, к его шуму, фактуре и свету, была обострённой и полной. Она поднимала его работы над уровнем сухого документа, превращая их в выражение страстного стремления человека найти точку опоры в мире.
«Сама вещь — такая тайная и такая неприступная».
Эванс знал: фотография не объясняет. Но она может — если повезёт — увидеть.
Эванс, вооружённый среднеформатной камерой Rolleiflex, располагался по другую сторону улицы. Он не смотрел прямо на прохожих, а заглядывал в верхний видоискатель камеры, которую зафиксировал на уровне груди. Люди проходили мимо, как тени, и у него была лишь доля секунды, чтобы принять решение — снимать или нет. Как и в случае с метрополитеном, процесс съёмки не предполагал точной композиции или тщательной фокусировки: здесь правили интуиция и доверие к случайности.
Почти никто из прохожих не замечал камеры — она была достаточно далека, чтобы остаться незаметной, и это позволяло сохранить естественность момента. Люди двигались свободно, с опущенными взглядами, погружённые в свои дела. Дистанция становилась не преградой, а необходимым условием: она освобождала фотографа от необходимости "интерпретировать" объект, оставляя пространство самой реальности. В этом безличном, отстранённом взгляде они теряли индивидуальные черты, превращаясь в социальные типы.
«Уличная сцена расскажет вам не меньше, чем утренняя газета. Один факт она не только передаёт, но буквально вбивает в вас: все работают».
Этот обзор фиксирует срез американского общества — момент времени, наступивший вскоре после окончания Второй мировой войны. И хотя случай играет огромную роль — ведь невозможно предугадать, кто именно окажется перед камерой, — снимки Эванса всё же убеждают нас: в них есть нечто подлинное и прочное, не сводящееся к мимолётности.
Их нельзя трактовать как простой поток прохожих. Фигуры, застывшие в кадре, приобретают вес: они слишком внушительны в своём молчаливом, неизменном присутствии, чтобы быть случайными. Это не просто документ, это визуальное доказательство бытия. Сам Эванс верил, что в фотографии «ничего хорошего не происходит иначе как по ошибке» — фраза, записанная Линкольном Кирстейном в дневнике 1931 года.
Именно в этой способности извлечь смысл из кажущейся случайности Анонимный труд раскрывает свою художественную необходимость. Подводя итог значению Эванса для истории фотографии, становится ясно: речь идёт не о формальных инновациях, а об изменении самого подхода к реальности. Эванс сместил фокус с традиционного стремления к описанию внешне «значимого» на пристальный взгляд внутрь обыденного. Его фотография — это акт внимания, а не интерпретации.
Работы Эванса демонстрируют возвращение к анонимному мастерству ранней фотографии — к ремеслу, где выражение заменяет авторский жест. Он сознательно устраняет своё «я» из кадра, защищая внутреннюю свободу, в которой может родиться образ. Эта сдержанность становится щитом, за которым художник даёт волю своему воображению.
Такое отношение к изображаемому позволило Эвансу превращать банальное в знаковое: случайное становилось вечным, обыденное — символическим. Его фотографии не столько рассказывают о людях, сколько создают возможность увидеть, что значит быть частью общества. Отдельные, на первый взгляд случайные, фрагменты складываются в картину культурного ландшафта, ставшего домом для целого поколения.
Томас Мейбри, рецензируя Американские фотографии в 1938 году, писал:
«Посмотрите через реку, на Истон, штат Пенсильвания. Похоже, весенний день. Весь город лежит перед вами. Я не родился ни в Пенсильвании, ни в городе — и всё же мне кажется, что я должен был родиться именно здесь».
Такой эффект принадлежности, глубокого узнавания — один из главных даров Эванса как художника. Линкольн Кирстейн недаром назвал его фотографию «хирургией на текучем теле времени».
Но прежде всего, в фотографиях Эванса ощущается неутолимый аппетит к жизни. Его чувствительность к телесной реальности мира, к его шуму, фактуре и свету, была обострённой и полной. Она поднимала его работы над уровнем сухого документа, превращая их в выражение страстного стремления человека найти точку опоры в мире.
«Сама вещь — такая тайная и такая неприступная».
Эванс знал: фотография не объясняет. Но она может — если повезёт — увидеть.
Оригинал интервью опубликован в книге Paul Graham, изданной в 1996 году издательством Phaidon.