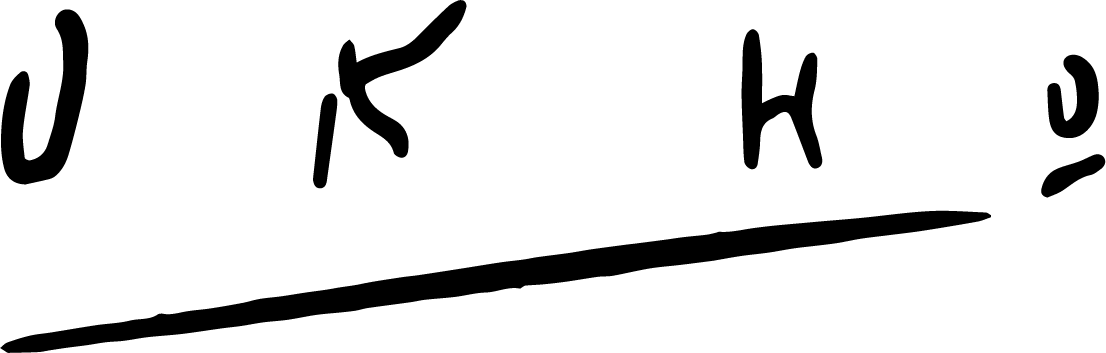Человек, поезд и тревога движения
Статья Елизаветы Орловской
Вагон №2: Давка, синкасэн и поезд с человеческим приводом
Обложка: Мураи Токудзи. Наканиси Нацуюки во время перформанса на линии Яманотэ, 1962
В фотографиях 1930-х годов, которые мы рассматривали в прошлый раз, настойчиво проявляется идея покорения — природы человеком или человека человеком — с помощью технологий. При этом фотография — как технология — тоже является инструментом власти. Здесь возникает вопрос о том, можем ли мы рассматривать паровоз как часть природы, или же он представляет собой её антипод — элемент футуристического воображаемого, как в модернистской композиции Хорино Масао? Человек как таковой (не как некий абстрактный «разум») выносится за скобки, поскольку речь идёт о включении объекта в пространство власти, а сущность этого объекта и его желания никого не волнуют.
Паровоз может быть наделен субъектностью сам по себе. Он движется по тем же маршрутам, которыми когда-то пользовались пешие путники, и, набирая скорость, начинает пугать, превращаясь в существо почти мифологического масштаба, почти как природное бедствие. Человек, ставший хозяином такой машины, может пытаться вступить в конфликт с природой, подчинить её себе. Именно это и происходит в ходе строительства железных дорог в Маньчжурии и выработке соответствующей визуальной риторики.
Когда в конституции 1947 года был закреплён радикальный отказ от войны, начало формироваться новое представление о том, что технический прогресс возможен (более того — неизбежен) в условиях мирного государства. Человек (не с большой, риторической, а как раз-таки с маленькой буквы, человек-претерпевающий), редко появлявшийся на фотографиях и на гравюрах служивший лишь элементом стаффажа, начинает занимать всё более заметное место.
Поезда на гравюрах эпохи Мэйдзи в этом контексте напоминают изображаемую на них же новую городскую архитектуру: идущие друг за другом вагоны отличаются от жилых построек лишь наличием колёс. Человек, едущий в поезде, так же отделён от природного ландшафта, как и человек, принимающий у себя гостей. Оба они находятся в искусственно созданном пространстве, отгороженном от остального мира, — месте, им сомасштабном и в то же время определяющем их роль и поведение.
Паровоз может быть наделен субъектностью сам по себе. Он движется по тем же маршрутам, которыми когда-то пользовались пешие путники, и, набирая скорость, начинает пугать, превращаясь в существо почти мифологического масштаба, почти как природное бедствие. Человек, ставший хозяином такой машины, может пытаться вступить в конфликт с природой, подчинить её себе. Именно это и происходит в ходе строительства железных дорог в Маньчжурии и выработке соответствующей визуальной риторики.
Когда в конституции 1947 года был закреплён радикальный отказ от войны, начало формироваться новое представление о том, что технический прогресс возможен (более того — неизбежен) в условиях мирного государства. Человек (не с большой, риторической, а как раз-таки с маленькой буквы, человек-претерпевающий), редко появлявшийся на фотографиях и на гравюрах служивший лишь элементом стаффажа, начинает занимать всё более заметное место.
Поезда на гравюрах эпохи Мэйдзи в этом контексте напоминают изображаемую на них же новую городскую архитектуру: идущие друг за другом вагоны отличаются от жилых построек лишь наличием колёс. Человек, едущий в поезде, так же отделён от природного ландшафта, как и человек, принимающий у себя гостей. Оба они находятся в искусственно созданном пространстве, отгороженном от остального мира, — месте, им сомасштабном и в то же время определяющем их роль и поведение.
Кофейня на железной дороге Нарита. Из Фудзоку Гахо № 274 (1903)
Что же происходит с человеком, оказавшимся в стране, разрушенной войной, основанной на технических средствах, и одновременно восстанавливающейся, готовой к экономическому подъёму, столь же тесно связанному с новыми технологиями и новым отношением к ним, — когда он находится внутри поезда, за его закрытыми дверями?
Джон Дауэр в книге Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II отмечает, что после войны железнодорожные линии и поезда, не разрушенные бомбежками, оказались переполнены людьми, направляющимися из деревни в город в поисках работы и пропитания. Во время войны в деревне было безопаснее пережидать авианалёты, но теперь страх бомбардировок сменился угрозой голода. Это трудно назвать началом урбанизации, но массовое стремление людей в города в поисках лучшей доли отчасти можно рассматривать как начало этого процесса.
Джон Дауэр в книге Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II отмечает, что после войны железнодорожные линии и поезда, не разрушенные бомбежками, оказались переполнены людьми, направляющимися из деревни в город в поисках работы и пропитания. Во время войны в деревне было безопаснее пережидать авианалёты, но теперь страх бомбардировок сменился угрозой голода. Это трудно назвать началом урбанизации, но массовое стремление людей в города в поисках лучшей доли отчасти можно рассматривать как начало этого процесса.
Префектура Тиба, поезд с людьми, едущими за продуктами, Асахи Симбун, 4 ноября 1945 // Томисигэ Ясуо. Переполненный поезд на станции Хаката, Фукуока, Асахи Симбун, июль 1947 // Общий вид вагона третьего класса ночного поезда, Асахи Симбун, 1948
Пространство вагона заменяло пространство дома, который мог быть к этому моменту уничтожен вместе с прежними представлениями о стране и собственном месте в ней. При этом оно было ещё более тесным и насильственным. Дауэр ссылается на воспоминания учителя из Осака, который в 1947 году описывал «игру в поезд», в которой дети делились на тех, кто изображал американских солдат, без проблем садящихся в «вагон», пройдя проверку «кондуктора» — и тех, кого принудительно высаживали. Иногда «поезд» ломался и всем приходилось «выходить». В этом контексте поезд предстает как модель государства в миниатюре, внутри которой воспроизводятся те же принципы и механизмы власти.
Интересно проследить, как образ поезда представлен в средствах массовой информации. Подборка фотографий из архива Getty Images показывает, как этот образ формируется в новостных репортажах, прежде всего на страницах Асахи Симбун. Разумеется, выборка совсем невелика и во многом отражает моё стремление проиллюстрировать возникающие различия — но даже на таком ограниченном материале можно отметить определенные тенденции.
Интересно проследить, как образ поезда представлен в средствах массовой информации. Подборка фотографий из архива Getty Images показывает, как этот образ формируется в новостных репортажах, прежде всего на страницах Асахи Симбун. Разумеется, выборка совсем невелика и во многом отражает моё стремление проиллюстрировать возникающие различия — но даже на таком ограниченном материале можно отметить определенные тенденции.
Поезд на Токио после капитуляции Японской империи перед союзниками, сентябрь 1945 / Pictures from History/Universal Images Group via Getty Images
Подавляющее большинство изображений первых послевоенных лет посвящено давке и тесноте в поездах и на остановке. В суматохе участвуют и демобилизованные солдаты, отношение к которым оставалось амбивалентным — о фотографиях с бывшими военными в начале 1950-х годов будут спорить фотографы, в частности, Домон Кэн. Вагоны, вышедшие из употребления, как и многие другие вещи, обретают в новой экономической ситуации новое предназначение (показательный пример такого переозначивания у Дауэра — каска превращается в миску). Вагон может быть переоборудован под жилое помещение (к вопросу об «архитектурности» поездов) или под детский сад.
Ученики детского сада в классе, оборудованном в старом железнодорожном вагоне, в районе Дзиюгаока, Токио, 2 ноября 1948 / Kyodo News Stills
После войны продолжает развиваться жанр визуального рассказа о «путешествии императора» и членов его семьи. Ранее он существовал в гравюре, соседствуя с рассказом о достопримечательностях страны и особенностях каждого региона. При предыдущих императорах «репортажи» о путешествиях и о стране, создававшиеся согласно заранее объявленой программе, дополнялись видовыми фотоснимками. То, на что мог смотреть император в поездке, документировалось и представлялось для всех в таком «законсервированном» виде, как пособие по выбору пейзажа для любования.
Полвека спустя, при новом уровне развития медиа, изменившееся положение императора в государственной системе предполагало большую публичность, большее количество и официальных встреч и выездов. Все эти события фиксировались при помощи новостных репортажей, построенных вокруг Хирохито как гражданина номер один. Возросло внимание и к императорской семье в целом, рассматриваемой как образец семьи, а также к отдельным её членам, переживающим становление нового государства вместе со всей страной. Так, в 1946 году были сделаны фотографии брата императора, принца Микаса, в переполненном поезде; кадр построен таким образом, чтобы вписать его в толпу.
Полвека спустя, при новом уровне развития медиа, изменившееся положение императора в государственной системе предполагало большую публичность, большее количество и официальных встреч и выездов. Все эти события фиксировались при помощи новостных репортажей, построенных вокруг Хирохито как гражданина номер один. Возросло внимание и к императорской семье в целом, рассматриваемой как образец семьи, а также к отдельным её членам, переживающим становление нового государства вместе со всей страной. Так, в 1946 году были сделаны фотографии брата императора, принца Микаса, в переполненном поезде; кадр построен таким образом, чтобы вписать его в толпу.
Члены императорской семьи на станции Токио, Асахи Симбун, 2 апреля 1950 // Принц Микаса в переполненном поезде линии Йокосука, Асахи Симбун, 19 марта 1946
Император перемещался на поезде, украшенном императорской символикой. Существует ряд снимков, на которых Хирохито выглядывает из окна вагона, стоя почти в «паспортной позе»: зафиксированная вспышкой фигура напоминает куклу в музейной витрине. Что, впрочем, неудивительно, поскольку изображения создавались для американских медиа. Любопытно также наблюдать различия между отдельными фотографиями, которые показывают процесс формирования нового образа императора — от медалей к деловому костюму.
Император Хирохито стоит у окна своего личного вагона на железнодорожной станции Момояма перед отправлением в родовое святилище в Унэби. Эксклюзивное фото фотографа компании Acme Тома Шафера. Это самое близкое расстояние, на которое фотографу когда-либо позволялось подобраться к императору.
Императорский поезд встречают и приветствуют, что резко контрастирует с очередями и условиями, в которых перемещаются обычные граждане. Впрочем, постепенно ситуация начинает меняться. Всё чаще на фотографиях появляются поезда, везущие груз, причём они часто вписаны в пейзаж. Транспортная и экономическая система налаживаются, возвращается представление о стабильности. К таким фотографиям легко подобрать пару из числа графических изображений, где поезд становится субъектом, перемещающимся среди природного ландшафта.
Томисигэ Ясуо. Тагава, Фукуока. Поезд, везущий хлопок, Асахи Симбун, июнь 1953
Вместе с тем растёт внимание к новой проблеме: дожди, разрушающие пути, пожары, цунами и сход поездов с рельс. Последнее, при желании, можно рассматривать как метафору, как и параллель между вагоном и домом, о которой мы говорили выше. Все эти конфликты можно перечислить через запятую, потому что катастрофа, связанная с крушением поезда и гибелью людей, визуально оказывается чем-то средним между природным катаклизмом и кошмаром, вызванным человеческой невнимательностью. В архивах сохранилось большое количество снимков поездов, сошедших с рельс и разрушивших улицу небольшого города.
Первично такие изображения хорошо вписываются в общий нарратив о трудностях послевоенной жизни. Их можно рассматривать рядом с новостными сводками о переполненных поездах, но они также могут быть частью линии, повествующей о борьбе человека с природой (в гравюре этот конфликт, безусловно, тоже существовал, но был иначе устроен), может быть даже как ответ природы на чаяния и надежды людей и фотографов первой половины века. Техника становится неуправляемой и это приводит к массовой гибели, как в пожаре на станции Сакурагитё. Что-то близкое мы найдем и среди фотоснимков, связанных с Хиросимой и Нагасаки и сделанных в первые, подцензурные годы.
Первично такие изображения хорошо вписываются в общий нарратив о трудностях послевоенной жизни. Их можно рассматривать рядом с новостными сводками о переполненных поездах, но они также могут быть частью линии, повествующей о борьбе человека с природой (в гравюре этот конфликт, безусловно, тоже существовал, но был иначе устроен), может быть даже как ответ природы на чаяния и надежды людей и фотографов первой половины века. Техника становится неуправляемой и это приводит к массовой гибели, как в пожаре на станции Сакурагитё. Что-то близкое мы найдем и среди фотоснимков, связанных с Хиросимой и Нагасаки и сделанных в первые, подцензурные годы.
Пожар в поезде, возле станции Сакурагитё, Иокогама (погибло 106 пассажиров), Асахи Симбун, 24 апреля 1951
С новыми возможностями возникает и новый досуг, а с ним и новое представление о пространствах и комфорте. На фотографиях (подчеркну, что это снимки не из японских источников), датируемых 1955 годом, мы видим аттракционы с поездами на крыше универмага и новый дизайн интерьера в новом вагоне на линии Токайдо. Дети с малых лет катаются на миниатюрных паровозиках (привет первому паровозу!), а поездки взрослых становятся более комфортными.
В парке развлечений на крыше универмага Мацуя в Гинза, Three Lions, 1955 // В поезде на линии Токайдо, Pictorial Parade, 1955
Теперь в город едут не для того, чтобы получить еду по карточкам, а для того, чтобы пойти на любимую работу, поэтому находится даже специальный человек, которому платят за заталкивание в переполненный вагон. Пресловутая «переполненность» меняет своё культурное значение — из знака абсолютной бедности она становится признаком массового стремления по делам, на работу, которая может обеспечить респектабельную жизнь. Потенциально работа есть у всех, кто пытается сесть на электричку: никто не болтается здесь просто так. Все заняты построением не просто удобного, но прекрасного будущего.
Пассажиры на станции Синдзюку, Асахи Симбун, 9 февраля 1949 // Охранник заталкивает пассажиров в переполненный поезд в Токио, 1955, Three Lions/Hulton Archive // Майкл Вольф. Из серии Tokyo Subway Dreams, 2010
В ходе послевоенного восстановления создавались новые проекты по электрификации и унификации железнодорожной системы. Стремительная урбанизация привела к расширению городов и росту нагрузки на пригородные поезда, в результате чего сформировался целый пласт населения (это именно «коллективное» явление), состоящий из тех, кто ежедневно ездил на работу в мегаполис на поезде. Во второй половине 1950х годов помимо повсеместной электрификации на железнодорожных путях часто происходят забастовки. В первую очередь они состоят из тех, кто строит эти пути или оказывает вынут из системы мобильности, будучи закрыт на промышленных предприятиях в небольших городах. Чаще всего такие забастовки возникали из-за потенциального сокращения или закрытия предприятия — на поезда вывешиваются плакаты и флаги, общее движение останавливалось. Пространство используется для «рекламы» не только государством и большими корпорациями, которые активно публикуют фотоотчеты о новых достижениях, но и населением, которое чувствует себя в праве произвести интервенцию в общественное (транспортное) поле (вагон). В доме хлопает дверь и на нее вывешивается табличка «Не влезай, убьет».
История национальной железной дороги описывается и воспринимается через призму достижений и круглых дат. На завершение электрификации линий или открытие новых станций выпускаются праздничные билеты, визуально наследующие уже знакомым нам графическим изображениям из 19 века. В 1964 году в ходе подготовки к Олимпиаде был открыт первый высокоскоростной маршрут: линия Токайдо Синкансэн. Маршрут от Токио до Осака в 1964 году можно было преодолеть за 4 часа, а уже в 1965-м за 3 часа 10 минут. На 2020 год время в пути составляло 2 часа 21 минуту.
История национальной железной дороги описывается и воспринимается через призму достижений и круглых дат. На завершение электрификации линий или открытие новых станций выпускаются праздничные билеты, визуально наследующие уже знакомым нам графическим изображениям из 19 века. В 1964 году в ходе подготовки к Олимпиаде был открыт первый высокоскоростной маршрут: линия Токайдо Синкансэн. Маршрут от Токио до Осака в 1964 году можно было преодолеть за 4 часа, а уже в 1965-м за 3 часа 10 минут. На 2020 год время в пути составляло 2 часа 21 минуту.
Билеты линий Токайдо, Хигасино, Ханкю-Киото, Дзёбан
На фоне технологических и инфраструктурных преобразований эпохи экономического роста возникают новые явления, связанные с железной дорогой. В конце 1950-х годов путешествия по стране, в ходе которых можно полюбоваться пейзажами и увидеть достопримечательности, широко рекламировались в журналах. Это становится особенно актуально в 1970—1980-е годы в ходе подготовки к приёму гостей на EXPO, поскольку после завершения выставок те же маршруты (в том числе скоростные, о которых мы говорили выше) предлагались для внутреннего туризма.
К октябрю 1970 года была запущена крупная рекламная кампания Discover Japan, визуально наследовавшая существовавшим раньше иллюстрированным путеводителям по знаменитым местам. При этом похожая компания для поощрения мобильности населения была реализована в 1967 году в Штатах, поэтому её заимствование стало одним из поводов для критики внутри Японии. Внутренний туризм и изображения, связанные с его рекламой — баннеры, плакаты, почтовые марки, журналы, телевизионные программы — становятся частью массовой культуры.
Рекламируются даже не столько конкретные направления, сколько образ жизни («Откройте для себя Японию и заново откройте себя», парафраз из нобелевской речи Кавабата Ясунари). Формируется миф о железной дороге как о пространстве свободы: путешествовать можно и нужно в одиночку, а не только в компании. Человеку должно быть комфортно в поезде, везущем его к историческому месту. Повышенное внимание уделялось образу женщины-путешественницы: эта идея позволяла компаниям найти нового потребителя и вместе с тем получить ещё одну порцию критики от левых интеллектуалов.
К октябрю 1970 года была запущена крупная рекламная кампания Discover Japan, визуально наследовавшая существовавшим раньше иллюстрированным путеводителям по знаменитым местам. При этом похожая компания для поощрения мобильности населения была реализована в 1967 году в Штатах, поэтому её заимствование стало одним из поводов для критики внутри Японии. Внутренний туризм и изображения, связанные с его рекламой — баннеры, плакаты, почтовые марки, журналы, телевизионные программы — становятся частью массовой культуры.
Рекламируются даже не столько конкретные направления, сколько образ жизни («Откройте для себя Японию и заново откройте себя», парафраз из нобелевской речи Кавабата Ясунари). Формируется миф о железной дороге как о пространстве свободы: путешествовать можно и нужно в одиночку, а не только в компании. Человеку должно быть комфортно в поезде, везущем его к историческому месту. Повышенное внимание уделялось образу женщины-путешественницы: эта идея позволяла компаниям найти нового потребителя и вместе с тем получить ещё одну порцию критики от левых интеллектуалов.
Discover Japan, 1970—1971
В 1978 году вышла книга Нагано Сигэити «Дориму эидзи» («Эпоха мечты»), где встречаются кадры с изображениями поездов, в которых горожане совершают свои ежедневные рутинные поездки. Нагано снимает поезда на линии Тюо как наполненное, динамичное пространство, что подчеркивается вертикальностью композиции. На развороте в книге снимки как бы продолжают друг друга, как два соседних окна в вагоне. При этом смазанность, которая могла бы быть признаком помутнившегося зрения и усталости, у Нагано в 1960—1966 годах отсылает к реальному движению поезда. Здесь есть толпа, но нет ощущения тесноты: поезда куда-то едут, а люди действительно куда-то стремятся. Время не останавливается, а идёт своим чередом. Пейзаж вокруг поезда Нагано в кадр не включает, поэтому мы можем даже рассматривать эти снимки как «портреты в интерьере», связанные с репортажем о современной городской жизни — занятой, но при этом свободной.
Нагано Сигэити. Из серии "Эпоха мечты"
Фотографы и кинематографисты активно критиковали проект Discover Japan, который отчасти стал продолжением-перевёртышем их собственных идей и теорий. На протяжении 1960-х годов формировалось представление о «теории пейзажа». Пейзаж понимался как явление, имеющее социальное и политическое измерения. Фильм Адати Масао «Рякусё рэндзоку сясатсу ма» (1969, на английском название приводится как А.К.А. Serial Killer), в котором рассказывается история серийного убийцы, построен вокруг скучного, подчеркнуто серого изображения индустриального, унифицированного — «какого угодно» — пейзажа.
Это как раз и есть тот пейзаж, который кажется незаметным и в то же время определяет душевное состояние и положение человека в пространстве. Его можно наблюдать мельком, из проносящегося поезда или окна автомобиля. Такая безликость характерна для нового, капиталистического мира, для геополитической системы, в которой человек оказывается винтиком в системе. В этом смысле поезд, на котором нужно ездить каждый день, превращается в тюрьму, не позволяющую увидеть ничего, кроме размытой панорамы за окном.
Размывается граница между условно городским и условно деревенским пейзажем. Станция, на которую ты приезжаешь, похожа на любую другую, неважно, насколько она удалена от мегаполиса. Пейзажи разделяются на те, на которые «стоит посмотреть» и те, что внимания не достойны. Такая смена оптики становится возможна именно благодаря развитию транспортных средств и сетей, в которых роль желанной точки играют исторические места, центры (во множественном числе) больших городов и достопримечательности. Идея «замкнутого пространства» тесно связана с понятием ландшафта, который, будучи создан властью, контролирует человека внутри себя.
Пространство города-мегаполиса тоже воспринимается как носитель власти, которую необходимо выявить и подвергнуть деконструкции. Этим занимались участники фотографического журнала PROVOKE, ставшего важным событием в истории японской фотографии второй половины ХХ века. Одной из идей PROVOKE было представление о фотографии как о «документе» (техногенной «записи») как о том, что может стать «провокацией» для мысли, отправной точкой для размышления, как вербального, так и визуального. В этой схеме особое значение обретает случайность и сопряженная с ней «анонимность». Авторы ставили перед собой задачу поиска новых способов выражения, соответствующих своей политической ситуации, культурной обстановке и одновременно вписанных в историческую последовательность.
До PROVOKE Накахира Такума и Таки Кодзи в составе большой группы (примечательно, что это в основном были именно фотографы) работали над выставкой «100 лет японской фотографии». PROVOKE изначально задумывался как проект, вписанный одновременно в историческую последовательность и в процесс современной фотографии.
Фотография стала инструментом критики, ножницами, позволяющими прорезать дыру в благополучных декорациях улицы (видимость благополучия тоже создается фотографией). При этом за ней признавалась способность фиксировать то, что можно сказать о её собственном времени, происходящих в нём сдвигах и месте, которое в нём занимает субъект — фотограф и/или смотрящий. Радикальные изменения можно отслеживать по фотоснимкам, как по окаменелостям.
Японские улицы 1960х годов состоят из автомобилей, дорог, регулировщиков, журналов и вывесок. Этот мир фрагментирован, разбит по страницам (поскольку именно так работает наше восприятие, непрерывный показ новых платьев по телевизору выглядит убедительнее, но это обманчиво), а его изображения подозрительно часто напоминают стенку аквариума с контрастно очерченными рыбками. Внутри абзацев возникают множественные, случайные скобки.
Это как раз и есть тот пейзаж, который кажется незаметным и в то же время определяет душевное состояние и положение человека в пространстве. Его можно наблюдать мельком, из проносящегося поезда или окна автомобиля. Такая безликость характерна для нового, капиталистического мира, для геополитической системы, в которой человек оказывается винтиком в системе. В этом смысле поезд, на котором нужно ездить каждый день, превращается в тюрьму, не позволяющую увидеть ничего, кроме размытой панорамы за окном.
Размывается граница между условно городским и условно деревенским пейзажем. Станция, на которую ты приезжаешь, похожа на любую другую, неважно, насколько она удалена от мегаполиса. Пейзажи разделяются на те, на которые «стоит посмотреть» и те, что внимания не достойны. Такая смена оптики становится возможна именно благодаря развитию транспортных средств и сетей, в которых роль желанной точки играют исторические места, центры (во множественном числе) больших городов и достопримечательности. Идея «замкнутого пространства» тесно связана с понятием ландшафта, который, будучи создан властью, контролирует человека внутри себя.
Пространство города-мегаполиса тоже воспринимается как носитель власти, которую необходимо выявить и подвергнуть деконструкции. Этим занимались участники фотографического журнала PROVOKE, ставшего важным событием в истории японской фотографии второй половины ХХ века. Одной из идей PROVOKE было представление о фотографии как о «документе» (техногенной «записи») как о том, что может стать «провокацией» для мысли, отправной точкой для размышления, как вербального, так и визуального. В этой схеме особое значение обретает случайность и сопряженная с ней «анонимность». Авторы ставили перед собой задачу поиска новых способов выражения, соответствующих своей политической ситуации, культурной обстановке и одновременно вписанных в историческую последовательность.
До PROVOKE Накахира Такума и Таки Кодзи в составе большой группы (примечательно, что это в основном были именно фотографы) работали над выставкой «100 лет японской фотографии». PROVOKE изначально задумывался как проект, вписанный одновременно в историческую последовательность и в процесс современной фотографии.
Фотография стала инструментом критики, ножницами, позволяющими прорезать дыру в благополучных декорациях улицы (видимость благополучия тоже создается фотографией). При этом за ней признавалась способность фиксировать то, что можно сказать о её собственном времени, происходящих в нём сдвигах и месте, которое в нём занимает субъект — фотограф и/или смотрящий. Радикальные изменения можно отслеживать по фотоснимкам, как по окаменелостям.
Японские улицы 1960х годов состоят из автомобилей, дорог, регулировщиков, журналов и вывесок. Этот мир фрагментирован, разбит по страницам (поскольку именно так работает наше восприятие, непрерывный показ новых платьев по телевизору выглядит убедительнее, но это обманчиво), а его изображения подозрительно часто напоминают стенку аквариума с контрастно очерченными рыбками. Внутри абзацев возникают множественные, случайные скобки.
Накахира Такума. Ночь, около 1969 // Накахира Такума. Грядущему языку (Китарубэки котоба но тамэ ни), 1970
Движение «зрителя» интенсифицируется вместе с общим темпом жизни. «Зритель» каждый день по пути на работу смотрит на проносящиеся мимо пригороды, а иногда сам начинает управлять своей скоростью, пересаживаясь за руль. Город представляет собой непрерывный визуальный поток: нет смысла останавливать красивую женщину на улице, если можно проехать мимо неё на автомобиле. Более того — это дает возможность избежать как столкновения, так и выбора объекта, зафиксировав на плоскости целую группу старшеклассниц. Власть над изображением означает власть над информацией, власть над тем, кто прочтет подпись и поверит в неё. Теперь у всех есть фотоаппараты и мы все, даже будучи частью медиапространства, можем найти способ выхода.
В 1969 году в Асахи Камера в специальной рубрике была опубликована серия Накахира Такума «Последний поезд» («Сюдэнся»).
В 1969 году в Асахи Камера в специальной рубрике была опубликована серия Накахира Такума «Последний поезд» («Сюдэнся»).
Накахира Такума. Последний поезд, Асахи Камера, 1968
Серия состояла из пяти фотографий, что, в сочетании со стилем, придает ей «набросочный» характер. На снимках мы видим интерьер «последнего поезда из Токио в Дзуси». Фотографии размытые, зернистые, не в фокусе («арэ-бурэ-бокэ»). Смазанные очертания объектов одновременно соответствуют движению поезда и состоянию фотографирующего. Можно даже сказать, что серия состоит из «пяти взглядов».
На первом, вертикальном изображении (нумерация дана по переизданию Provoke: Between Protest and Performance: Photography in Japan 1960−1975. Aperture, 2019) видны поручни и потолок вагона, заваленный набок. Второй «взгляд» направлен на противоположные сидения со спящими человеческими фигурами и раздвижные двери. Третий — сосед по сидению держится за перебинтованную голову, перспектива вагона. Четвёртый — кто-то прижимается с противоположной стороны к двери с полустертыми надписями, композиционно они находятся там, где должно было бы быть лицо («и т.д.»). Последний снимок, горизонтальный, соответствует взгляду из двери: поезд уже набирает скорость, нижняя часть смазана. На деревянных скамьях на остановке тоже лежат люди. Внизу на 2 странице есть текст, вступающий с изображениями в игру в противоречия:
«<…> Суета, продолжение дневных тягот, исчезает, на смену ей приходит странная тишина и чувство облегчения, порождённое усталостью. <…> Ровное дыхание, зевание и даже тихое жужжание электрического вентилятора приобретают некую интимность».
На первой странице изображён именно этот вентилятор. Лирический герой (кажется, что это самое подходящее обозначение) находится внутри пространства поезда. Он заперт туда по чьей-то неведомой воле, оглядывается вокруг себя и всё больше и больше теряется в пространстве. Его окружают неведомые существа, растворяющиеся в зерне фотоснимка. Смысл и направление его движения тоже неизвестны, пространство замкнуто на себе самом и относительно окружающего мира.
«Пришельцев» на остановке можно рассмотреть только с подножки поезда. Поезд уже уезжает, а фотограф не может сойти на перрон, хотя это и должно было бы произойти по внутренней логике серии, если мы видим в ней повествовательную последовательность. Соседей по вагону не узнать, фигуры рассыпаются по сидениям, неестественно заваливаясь в сторону — камера ведёт себя соответствующе. Обыгрывается «изнаночность», «посюстороннесть»: с «другой» стороны кто-то хочет войти в вагон, и «оттуда» пришёл сосед с перебинтованной головой. Внешний мир, утопающий в скорости, представляется пространством, из которого приносится усталость, в то время как внутри поезда возникает «некая интимность», не лишённая, впрочем, какого-то зловещего оттенка.
Человек едет в компании усталых и пьяниц в полупустом вагоне поздно ночью. При всём при том замкнутое пространство, где слышится «тихое жужжание электрического вентилятора» оказывается частично освобождено от «ландшафта» за окном, от прямой власти пригородов.
Накахира активно критиковал Discover Japan за то, что в нём заимствовались элементы серьёзных художественных проектов, в том числе из PROVOKE. Отмечу в скобках, что для Накахира, как и для других фотографов его круга, был характерен интерес к фотографическому путешествию по разным городам мира. Накахира снимал и в Японии, на островах Токара, Окинава и Амами. Море в этой серии снимков тоже становится своеобразной границей, отделяющей острова и островную жизнь от остального мира.
На первом, вертикальном изображении (нумерация дана по переизданию Provoke: Between Protest and Performance: Photography in Japan 1960−1975. Aperture, 2019) видны поручни и потолок вагона, заваленный набок. Второй «взгляд» направлен на противоположные сидения со спящими человеческими фигурами и раздвижные двери. Третий — сосед по сидению держится за перебинтованную голову, перспектива вагона. Четвёртый — кто-то прижимается с противоположной стороны к двери с полустертыми надписями, композиционно они находятся там, где должно было бы быть лицо («и т.д.»). Последний снимок, горизонтальный, соответствует взгляду из двери: поезд уже набирает скорость, нижняя часть смазана. На деревянных скамьях на остановке тоже лежат люди. Внизу на 2 странице есть текст, вступающий с изображениями в игру в противоречия:
«<…> Суета, продолжение дневных тягот, исчезает, на смену ей приходит странная тишина и чувство облегчения, порождённое усталостью. <…> Ровное дыхание, зевание и даже тихое жужжание электрического вентилятора приобретают некую интимность».
На первой странице изображён именно этот вентилятор. Лирический герой (кажется, что это самое подходящее обозначение) находится внутри пространства поезда. Он заперт туда по чьей-то неведомой воле, оглядывается вокруг себя и всё больше и больше теряется в пространстве. Его окружают неведомые существа, растворяющиеся в зерне фотоснимка. Смысл и направление его движения тоже неизвестны, пространство замкнуто на себе самом и относительно окружающего мира.
«Пришельцев» на остановке можно рассмотреть только с подножки поезда. Поезд уже уезжает, а фотограф не может сойти на перрон, хотя это и должно было бы произойти по внутренней логике серии, если мы видим в ней повествовательную последовательность. Соседей по вагону не узнать, фигуры рассыпаются по сидениям, неестественно заваливаясь в сторону — камера ведёт себя соответствующе. Обыгрывается «изнаночность», «посюстороннесть»: с «другой» стороны кто-то хочет войти в вагон, и «оттуда» пришёл сосед с перебинтованной головой. Внешний мир, утопающий в скорости, представляется пространством, из которого приносится усталость, в то время как внутри поезда возникает «некая интимность», не лишённая, впрочем, какого-то зловещего оттенка.
Человек едет в компании усталых и пьяниц в полупустом вагоне поздно ночью. При всём при том замкнутое пространство, где слышится «тихое жужжание электрического вентилятора» оказывается частично освобождено от «ландшафта» за окном, от прямой власти пригородов.
Накахира активно критиковал Discover Japan за то, что в нём заимствовались элементы серьёзных художественных проектов, в том числе из PROVOKE. Отмечу в скобках, что для Накахира, как и для других фотографов его круга, был характерен интерес к фотографическому путешествию по разным городам мира. Накахира снимал и в Японии, на островах Токара, Окинава и Амами. Море в этой серии снимков тоже становится своеобразной границей, отделяющей острова и островную жизнь от остального мира.
Накахира Такума. Последний поезд, разворот книги
На примере «Последнего поезда» хорошо видно, как строятся отношения между журналом, редактором и фотографом. Для шестидесятых и семидесятых был характерен формат зина или самодельной фотокниги, однако периодика по-прежнему оставалась главным пространством для публикации новых фотосерий. Накахира представляет серию, отобранную и аранжированную им самим, которая становится частью общего визуального потока издания.
Идея «циркуляции изображений» обсуждалась ещё в PROVOKE. Позже Накахира развивает её в одноимённой серии, созданной для Центра Помпиду. Здесь выбор изображений полностью принадлежит самому фотографу, и они работают на странице не как буквы, складывающиеся в значение, а скорее как иероглифы — особенно ясно это проявляется в снимке с иероглифом на стекле.
Идея «циркуляции изображений» обсуждалась ещё в PROVOKE. Позже Накахира развивает её в одноимённой серии, созданной для Центра Помпиду. Здесь выбор изображений полностью принадлежит самому фотографу, и они работают на странице не как буквы, складывающиеся в значение, а скорее как иероглифы — особенно ясно это проявляется в снимке с иероглифом на стекле.
Накахира Такума. Наводнение. 1974
Узнаваемый и легко копируемый стиль стал одной из причин того, почему теоретическое наполнение PROVOKE часто отходит на второй план, что привело журнал к раннему закрытию. Капиталистический мир, который критиковали шестидесятники, после EXPO расцвел пышным цветом. Для Накахира понимание этого стало одной из причин смены стиля и вектора поисков в фотографии: вместо арэ-бурэ-бокэ и хаотичного построения в «Грядущему языку» он придет к «словарной» («Зачем нужен иллюстрированный ботанический словарь?», 1973), антисинтаксической (а значит — антикоммерческой) логике своих поздних книг и работ. В 1977 году Накахира перенес алкогольное отравление и впал в кому, из которой вышел с множественными осложнениями, вплоть до афазии и потери памяти. Он продолжил работать в том же направлении.
Накахира Такума. Documentary. Издано в 2011
1960е годы в Японии, как и во многих других странах, ознаменовались массовыми протестами и забастовками, связанными с требованиями изменить правила работы университетов и не перезаключать Договор о безопасности с США, а также бунтом против новой японской политической элиты и выступлениями против войны во Вьетнаме. В это время актуальными оказываются те способы выражения, которые позволяют действовать активно и прямо, хотя само это действие может носить характер скорее иронический, чем политический.
То, как видели город фотографы из PROVOKE и то, как они подходили к процессу съемки, можно сравнить с тем, как работают художники перформанса, акции и хеппенинга. В таком случае у снимков появляется ещё одно «документальное измерение»: сам факт перемещения в пространстве документируется как художественный жест. Расширение круга значений здесь происходит именно там, где жесту, вырванному из повседневности, колеблющемуся между повседневным и театральным, приписывается художественный смысл. При этом существовала и фотография, напрямую связанная с перформативными практиками, фотография, фиксирующая проведение действия, выполняющая не только, но скорее рабочую функцию. На таких полу-архивных снимках мы тоже увидим поезда.
То, как видели город фотографы из PROVOKE и то, как они подходили к процессу съемки, можно сравнить с тем, как работают художники перформанса, акции и хеппенинга. В таком случае у снимков появляется ещё одно «документальное измерение»: сам факт перемещения в пространстве документируется как художественный жест. Расширение круга значений здесь происходит именно там, где жесту, вырванному из повседневности, колеблющемуся между повседневным и театральным, приписывается художественный смысл. При этом существовала и фотография, напрямую связанная с перформативными практиками, фотография, фиксирующая проведение действия, выполняющая не только, но скорее рабочую функцию. На таких полу-архивных снимках мы тоже увидим поезда.
Мураи Токудзи. Наканиси Нацуюки во время перформанса на линии Яманотэ, 1962
Здесь нам снова придется выйти на платформу и пересесть в поезд, хронологически идущий в обратном направлении. 18 октября 1962 года будущие участники группы Hi-Red Center, Наканиси Нацуюки, Такамацу Дзиро, Акасегава Гэнпэй и ряд их соратников, включая фотографа Мураи Токудзи, провели событие, известное как «Инцидент на линии Яманотэ». Приглашения были разосланы 700 людям, включая художников, поэтов, друзей и тех, кто был случайно выбран из телефонного справочника. Таким образом, граница «театральности» всё-таки была обозначена, событие можно было поместить в кавычки и рассмотреть как что-то, от мира реального отделённое.
Мураи Токудзи. Во время перформанса на линии Яманотэ, 1962
Линия Яманотэ представляет собой что-то вроде наземного метро, распространяющегося на ближайший пригород, поэтому это не совсем метро и не совсем электричка. Наканиси и Такамацу сели в поезд, идущий по кольцевой линии против часовой стрелки. Их лица были выкрашены в белый, но одеты они при этом были в повседневную одежду. Наканиси расположился в центре вагона, держа в руках странный объект: яйцеобразный кусок смолы, в котором были видны наручные часы, обрывки веревки, солнцезащитные очки, крышки от бутылок и человеческие волосы (описание привожу по цитате очевидца). Позже Наканиси начал облизывать его и светить фонариком в лица пассажирам. Такамацу нёс в руках 3.5 метровый шнур и испещрённую дырами газету, которую он пытался читать. По воспоминаниям, кто-то из участников даже обрызгал вагоны белой краской снаружи, переведя действия группы в разряд интервенции.
Мураи Токудзи. Во время перформанса на линии Яманотэ, 1962
В рамках хеппенинга территория поезда рассматривалась как территория повседневности, которую нужно «вскрыть». Железная дорога здесь понимается, как самый обыденный опыт из возможных, самый понятный способ структуризации собственного дня. Похожим образом участники Hi-Red Center позднее работали с другими «общепринятыми» «нормальными» системами, например, с деньгами или с жанром газетной публикации.
Наканиси вспоминал, что на месте было слишком много фотографов, поэтому сложно было выполнить поставленную задачу: люди начинали думать, что попали на съемки фильма. Проблематизация пространства столкнулась с тем, что процесс превратился не то в театр, не то в галерею. В таком месте зрители чувствовали себя слишком безопасно, именно как зрители, а не как соучастники. Впрочем, в поезде всё равно сохранялся определенный эффект неожиданности от столкновения с маргинальным.
Наканиси вспоминал, что на месте было слишком много фотографов, поэтому сложно было выполнить поставленную задачу: люди начинали думать, что попали на съемки фильма. Проблематизация пространства столкнулась с тем, что процесс превратился не то в театр, не то в галерею. В таком месте зрители чувствовали себя слишком безопасно, именно как зрители, а не как соучастники. Впрочем, в поезде всё равно сохранялся определенный эффект неожиданности от столкновения с маргинальным.
Мураи Токудзи. Во время перформанса на линии Яманотэ, 1962
Уильям Маротти в книге Money, Trains, and Guillotines: Art and Revolution in 1960s Japan (Duke University Press, 2013) пишет о том, что «Инцидент на линии Яманотэ» можно трактовать не только и не сколько как порождение протестного духа времени — участники PROVOKE тоже занимались институциональной критикой и критикой общественного устройства, прибегая к активным сторонам фотографии и письма — но как результат размышления о том, как символические события (катастрофа войны, оккупация и постройка нового государства на радикально иных началах) влияют на состояние гражданского ума. Первая волна протестов, связанных с перезаключением неравного договора с США (1960), к 1962 году уже утихла. Тишина вагона, в котором происходили странности, уравнены с тишиной общественного сознания, не обращающего внимание на факт «инакоповедения», символизирующего инакомыслие.
Событие происходит внутри, в самом чреве поезда, для людей, которые в нём находятся, будучи временно заперты и не имея возможности его покинуть. Люди, в нём оказавшиеся, едут в разные места и лишены какой-то общей цели, однако их помещённость во временную «коробку» делает их частью временного сообщества. Эта коробка пуста, в ней не происходит коммуникации (цель поездки маячит где-то далеко на горизонте), поэтому художники заполняют её при помощи события. Те, кто обращал на него внимание, могли временно оказаться в другом месте, в другом пространстве. Театр сам пришёл к ним.
Разговор о театре, фотографии и поездах хочется продолжить разговором о театре, фотографии и кино. В каком-то смысле мы возвращаемся к изначальной точке, где локомотив и киноаппарат оказываются даже более синонимичны, чем локомотив и фотографическая камера. Здесь хочется поговорить даже не об одном конкретном произведении, а о том, как в нескольких из них повторяются вариации одного и того же образа.
Событие происходит внутри, в самом чреве поезда, для людей, которые в нём находятся, будучи временно заперты и не имея возможности его покинуть. Люди, в нём оказавшиеся, едут в разные места и лишены какой-то общей цели, однако их помещённость во временную «коробку» делает их частью временного сообщества. Эта коробка пуста, в ней не происходит коммуникации (цель поездки маячит где-то далеко на горизонте), поэтому художники заполняют её при помощи события. Те, кто обращал на него внимание, могли временно оказаться в другом месте, в другом пространстве. Театр сам пришёл к ним.
Разговор о театре, фотографии и поездах хочется продолжить разговором о театре, фотографии и кино. В каком-то смысле мы возвращаемся к изначальной точке, где локомотив и киноаппарат оказываются даже более синонимичны, чем локомотив и фотографическая камера. Здесь хочется поговорить даже не об одном конкретном произведении, а о том, как в нескольких из них повторяются вариации одного и того же образа.
Тэраяма Сюдзи, «Умереть в деревне», 1974
Псевдо-автобиографические заметки режиссера и писателя Тэраяма Сюдзи (когда-нибудь я позволю себе начинать рассказ о нем с «писатель и алхимик Тэраяма Сюдзи», но здесь слишком высок риск быть превратно понятой!) начинаются с его рассказа о том, что, по рассказам собственной матери он был «рождён в поезде». Речь Тэраяма о самом себе построена на самомифологизации и самоопровержении, где основной задачей пишущего и/или говорящего является освобождение от любой фактологической точности.
«Рождение в поезде», о котором Тэраяма рассказывали в детстве (рассказывали ли?) объясняется срочным переездом между двумя городами. Мать Тэраяма своих воспоминаниях утверждает, что задержалась с регистрацией рождения, поэтому существуют разночтения в датах: декабрь 1935 / январь 1936 года. Смещение происходит не только в пространстве, но и во времени. Детство и юношество Тэраяма было сопряжено с постоянными перемещениями по префектуре в связи с войной и постоянными бомбёжками.
«Рождение в поезде», о котором Тэраяма рассказывали в детстве (рассказывали ли?) объясняется срочным переездом между двумя городами. Мать Тэраяма своих воспоминаниях утверждает, что задержалась с регистрацией рождения, поэтому существуют разночтения в датах: декабрь 1935 / январь 1936 года. Смещение происходит не только в пространстве, но и во времени. Детство и юношество Тэраяма было сопряжено с постоянными перемещениями по префектуре в связи с войной и постоянными бомбёжками.
Тэраяма Сюдзи, «Умереть в деревне», 1974
Основным проектом Тэраяма была театральная труппа Тэндзё Садзики, ставившая авангардные спектакли и перформансы. В дальнейшем он работал как кинорежиссер и именно в этой роли стал известен за пределами Японии. При этом как в пьесах, так и в киносценариях Тэраяма прослеживается интерес к теме взросления, которая накладывается на представления о биографическом. В главном герое всегда хочется видеть самого Тэраяма, тем более, что действие часто происходит в его родной префектуре Аомори.
Можно выстроить цепочку из фильмов, посвященных соответственно детству и юношеству / деревне и городу: «Умереть в деревне» (1974) и «Выбрасывай книги, выходи на улицу» (1971), где появляется даже не сам поезд, а рельсы, ведущие из одного пространства в другое. Соответственно, герои заперты не в вагоне, а в самих себе.
Можно выстроить цепочку из фильмов, посвященных соответственно детству и юношеству / деревне и городу: «Умереть в деревне» (1974) и «Выбрасывай книги, выходи на улицу» (1971), где появляется даже не сам поезд, а рельсы, ведущие из одного пространства в другое. Соответственно, герои заперты не в вагоне, а в самих себе.
Тэраяма Сюдзи, «Умереть в деревне», 1974
В мире Тэраяма поезд это не просто технический объект или элемент пейзажа — тем более, что пространство Аомори населено архаическими сущностями, это всегда своего рода пра-Япония — а сложная символическая конструкция. В «Умереть в деревне» теряющиеся в траве рельсы указывают на возможность побега, перехода в иное пространство (взросление). В фильме есть сцена, где герой ждёт, когда рельсы поменяют направление и он сможет «ехать». Это напоминает упомянутую выше «игру в поезд». Он сталкивается на путях с персонажем, похожим на бывшего солдата императорской армии — эту фигуру можно интерпретировать как образ отца-неудачника — а после договаривается с живущей по-соседству красавицей о побеге на поезде. Побег не удаётся, мы оказываемся в зале для просмотра фильмов, где уже взрослый герой рассказывает о детстве. Поезд может увезти по направлению к мечте, во взрослую жизнь и в город, которая столь же призрачна, как и он сам. Получается, что поезд — это пограничная зона одновременно между мирами и состояниями.
Тэраяма Сюдзи, «Умереть в деревне», 1974
Поезда появляются и в ещё одном фильме Тэраяма, в «Ковчеге». Маленький паровоз, на котором едет наследник древнего рода, становится частью сказания о переселении в город, из прошлого в будущее. Здесь сходятся представления о поезде как о чём-то одновременно существующем и в пространстве современности, и в пространстве мифологии.
Тэраяма Сюдзи, «Ковчег»,
Поезд становится знаком наступающего будущего и одновременно почти инфернальным существом, перевозящим мертвецов, которому мы приписываем те же свойства, что когда-то приписывали более абстрактным, природным силам. Если рассматривать место этой сцены в общей структуре фильма, она напоминает интермедию или цирковую сценку. При этом сюжетно сцена вплетена в сон убийцы, обречённого на мучения страха и совести.
Воспоминание о родственнике/предке приобретает черты фарса и становится спектаклем. В этом смысле поезд у Тэраяма — не средство перемещения, а механизм трансформации. Он превращает бытовое в воображаемое, частное — в коллективное, реальное — в театральное. Эта функция соотносится с эстетикой авангарда 1960−70-х годов, когда границы между театром, фотографией, кино и перформансом сознательно стирались. Если у Накахира поезд становится пространством отчуждения, где по большому счету теряет значение место зрителя, он может быть «какой угодно», то у Тэраяма поезд — это сцена, где память и воображение тоже вступают в игру.
Воспоминание о родственнике/предке приобретает черты фарса и становится спектаклем. В этом смысле поезд у Тэраяма — не средство перемещения, а механизм трансформации. Он превращает бытовое в воображаемое, частное — в коллективное, реальное — в театральное. Эта функция соотносится с эстетикой авангарда 1960−70-х годов, когда границы между театром, фотографией, кино и перформансом сознательно стирались. Если у Накахира поезд становится пространством отчуждения, где по большому счету теряет значение место зрителя, он может быть «какой угодно», то у Тэраяма поезд — это сцена, где память и воображение тоже вступают в игру.
Тэраяма Сюдзи, «Выбрасывай книги, выходи на улицу» (1971)
В фильме «Выбрасывай книги, выходи на улицу» рельсы проходят рядом с домом главного героя, живущего в бедном пригороде. Он бежит по рельсам, тренируется, чтобы попасть в футбольную команду (это показано через монтажную склейку), читает французскую литературу и воспринимает новые лозунги одновременно и скептически, и близко к сердцу.
Поезда нет, поэтому по рельсам приходится бежать самому. Человек замещает собой техническое устройство. В этом же фильме возникает образ «самолёта с человеческим приводом»: человек может разогнаться и полететь сам, без помощи аппарата. Бегство по рельсам становится жестом отчаяния и невозможности выхода за пределы бедности, самого себя и исторического момента.
Поезда нет, поэтому по рельсам приходится бежать самому. Человек замещает собой техническое устройство. В этом же фильме возникает образ «самолёта с человеческим приводом»: человек может разогнаться и полететь сам, без помощи аппарата. Бегство по рельсам становится жестом отчаяния и невозможности выхода за пределы бедности, самого себя и исторического момента.
Тэраяма Сюдзи, «Выбрасывай книги, выходи на улицу» (1971)
Шпалы из метафоры пути становятся ограничением, допускающим только иллюзию свободы. Получается перевертыш: если в послевоенной Японии поезд символизировал модернизацию, экономический рост и технологический прогресс — от массовой электрификации до запуска линии «Синкансэн» в 1964 году, с акцентом на массовость и доступность транспорта в 1960—1970-е годы, — то у Тэраяма поезд скорее связывается с прошлым, с чем-то, на что возлагается слишком много не оправдывающихся надежд и ожиданий. Он перестаёт быть символом будущего и превращается в знак застойного ожидания, невозможности настоящего движения: вместо средства перемещения становится границей между мирами, вместо инструмента свободы — признаком неразрешимого парадокса.
Герои застревают в пространстве «между» своими состояниями и географией. Такое «застревание» отражает опыт поколения художников, режиссеров и фотографов, для которых в момент окончания войны было слишком мало лет, чтобы идти на фронт, но уже достаточно, чтобы почувствовать тяжесть послевоенного времени, когда казавшиеся незыблемыми идеи взрослых потерпели крах.
Не так важно, приезжает поезд или нет: он всё равно становится символом утраты. Либо мы слишком долго его ждём и остаёмся на месте, застревая в прошлом и теряя будущее, либо уезжаем на нём из родного пригорода, отрываясь от прошлого. Прибытие куда-либо изначально кажется невозможным, как и финальная станция на линии Яманотэ.
Герои застревают в пространстве «между» своими состояниями и географией. Такое «застревание» отражает опыт поколения художников, режиссеров и фотографов, для которых в момент окончания войны было слишком мало лет, чтобы идти на фронт, но уже достаточно, чтобы почувствовать тяжесть послевоенного времени, когда казавшиеся незыблемыми идеи взрослых потерпели крах.
Не так важно, приезжает поезд или нет: он всё равно становится символом утраты. Либо мы слишком долго его ждём и остаёмся на месте, застревая в прошлом и теряя будущее, либо уезжаем на нём из родного пригорода, отрываясь от прошлого. Прибытие куда-либо изначально кажется невозможным, как и финальная станция на линии Яманотэ.
Тэраяма Сюдзи, Museum Catalog Art Book Official, 2000
Поезд как нечто, одновременно приносящее спасение и несущие угрозу катастрофы, встречается и у Миадзаки, наряду с множеством других техногенных объектов, хотя он не занимает центрального места, как, например, летающие аппараты. Еще одним поводом вспомнить Тэраяма, помимо интереса к летающим устройствам, является тесное соседство мифологического и техногенного.
У Миадзаки формируется образ техники как двойственного объекта: она может разрушать природу, но также открывать возможность для создания нового, фантастического мира. При этом послание Миадзаки, родившегося позже Тэраяма, Накахира и участников Hi-Red Center, отличается подчёркнутой гуманистичностью. Обостряется конфликт между техногенным и природным; Миадзаки акцентирует внимание на том разрыве, о котором мы уже говорили в связи с гравюрой.
У Миадзаки формируется образ техники как двойственного объекта: она может разрушать природу, но также открывать возможность для создания нового, фантастического мира. При этом послание Миадзаки, родившегося позже Тэраяма, Накахира и участников Hi-Red Center, отличается подчёркнутой гуманистичностью. Обостряется конфликт между техногенным и природным; Миадзаки акцентирует внимание на том разрыве, о котором мы уже говорили в связи с гравюрой.
Напоследок хочется предложить вам послушать песню Train-Train панк-группы The Blue Hearts (1988), где благодаря ритму и тексту — прежде всего ритму — поезд превращается в метафору. В мировой песенной лирике поезда начинают все чаще появляться к 1970-м годам, что заметно как у американских исполнителей, так и у японских. Если в 1960-е поезд символизировал судьбу и разлуку, то в 1970-е — встречу. В 1980-х он утрачивает ассоциации с мечтой, свободой и судьбой, становясь символом кризиса, отчуждения и перемен, которые помогают их преодолеть.